Лесли Хазелтон. После Пророка
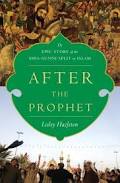
Лесли Хазелтон
После Пророка
Эпическая история суннитско-шиитского противостояния
ПРОЛОГ
Огорашивающая взрывная волна смела все вокруг. И если миллионы оцепеневших паломников зрели на случившееся, едва ли кто из них мог уложить в своем сознании страшную суть произошедшего, ибо чтобы осмыслить его требовалось много времени. Первое, что услышали приходившие в себя паломники, были стоны и крики.
Они бежали, пытались в панике покинуть площадь, нырнуть в улочки, ведущие к златокупольной мечети. Они шарахались от дыма, обломков, крови и осколков стекла, разбросанных конечностей, разорванных в клочья тел. Они искали пристанище в близлежащих домах, но последующие взрывы сметали эти жилища с лица земли.
За какие-то полчаса прогремело девять взрывов, взрывались автомобили, гранаты, подрывали себя смертники, раздавались минометные очереди. Город охватил смрад обгоревшей плоти и паленого пространства. Завыли сирены скорой помощи.
Случилось это утром 4 марта 2004 г, в десятый день месяца Мухаррам по мусульманскому календарю, в тот самый день, который мусульмане зовут Ашура. В городе Карбала погибли паломники-шииты, многие из которых предприняли пеший путь в 50 милей из Багдада. Со знаменами, развевающимися над головами, они пели песни, били себя в грудь в знак траура по убиенному Хусейну, Правителю всех мучеников, внуку Мухаммеда, который был убит именно на этом месте. Дух свободы витал среди несущих траур. Режим Саддама Хусейна запрещал паломникам вступать на эту священную для них землю. А теперь, впервые после падения режима Саддама Хусейна, паломники могли гордо и открыто скорбить. И вот этот пробивающийся сквозь землю росток свободы занес многих паломников в ряды мучеников в зеркале истории.
Кровавая бойня в день Ашуры, они так прозвали это событие, стала первым признаком грядущей гражданской войны. И на устах паломников застыл вопрос – как такое могло случиться?
Суннитская экстремистская группа Аль-Каида в Ираке рассчитала свою атаку с особой жестокостью. Шокировало обывателя все: как время и место взрывов, так и количество убитых и раненных. Ашура является одним из самых святых дней в шиитском календаре, наподобие Дня Искупления у евреев или Пасхального воскресенья у христиан. А Карбала олицетворяет собой место, где в 680 году произошло страшное событие. Слово Карбала состоит из двух слов: караб (хараба), что означает разрушение, опустошение и бала (bala) – горе, несчастье.
Ведь не прошло и полвека со дня смерти Мухаммеда, когда его самые близкие последователи начали убивать представителей рода Пророка, а женщин из рода Пророка и вовсе, заковав в цепи, заточали в темницы. Когда в 680 году произошла резня, весь мусульманский мир, от границ Индии на востоке и до границ Алжира на Западе, словно содрогнулся. Все были ошеломлены, и каждый задавался тогда тем же вопросом, который застыл на устах далеких потомков четырнадцать столетий спустя: как такое могло случиться?
То, что случилось в Карбале в седьмом веке, стала историей, положившей начало расколу между суннитами и шиитами. Эта история всем известна, о ней оживленно и подробно ведают ранние исламские источники. О ней знают все сунниты на Ближнем Востоке, она кровоточит сердца шиитов. Это событие не только выстояло, но и сумело впитать в себя всю эмоциональную мощь и превратиться в разворачивающую спираль, в которой безвылазно сплетались прошлое и настоящее, вера и политика, личное отождествление и национальное искупление.
Шииты утверждают, наш каждый день — Ашура, наша каждая обитель — Карбала – и 4 марта 2004 года этот призыв был на устах паломников. История Карбалы – это бесконечная история, не явившая себя мусульманскому миру, самая кровавая из всех истории в Ираке, колыбели шиитского Ислама.
Как произошла эта история, и почему она имела место, мы и расскажем в нашей книге.
ЧАСТЬ 1 МУХАММЕД
Глава 1
Стартовой точкой всей этой эпической истории, видимо, является смерть Мухаммеда. Пророки смертны, вот в чем фокус! Казалось, что современники Мухаммеда и вовсе не думали о том, что наступит день, когда сам Мухаммед уйдет в мир иной.
А понимал ли он сам, что смертен? Конечно! Понимали и вокруг, но никто не отваживался признать сей непреложный факт, что со стороны выглядело абсурдом. Мухаммеду было шестьдесят три года, для той поры довольно приличный возраст. Он перенес несколько ранений в сражениях, на него более чем три раза покушались. И после последних куда более серьезных угроз жизни Пророка, окружавшие его соратники в тот момент, когда вся Аравия была под знаменем Ислама, как-то небрежно отнеслось к свалившей Пророка в постель заболеванию.
Те самые люди, которые когда-то противостояли ему, помышляли его убить, сегодня находились в высшей когорте его приближенных. В Аравии наступил мир, общество сплотилось вокруг своего вождя. То нельзя было назвать рассветом новой эпохи, то было сулящим, ярким солнечным утром Ислама. Аравия собиралась выйти за свои пределы, из темных задворков, и взойти на мировую сцену политики и культуры. Как же мог предводитель этой страны принять смерть на грани такого триумфа? Как мог человек, выдержавший пекло сражений и всю гнусь покушений, позволить себе столь обыденную смерть от не менее обыденной болезни?
А ведь хворь начиналась довольно безобидно, так себе побаливало тело. Ничего экстраординарного, как казалось, за исключением того, что болезнь не проходила. Она, то нарастала, то отходила, но с каждым возвращением становилась все более ожесточенной. Симптомы и продолжительность болезни, а длилась она всего 10 дней, указывали на вирусный менингит, несомненно, подхваченный им во время одного из военных походов. Как известно, это заболевание и в наши дни является смертельным.
Вскоре головные боли, от которых темнело в глазах, и боли в мышцах ослабили его так, что он не мог вставать с постели без посторонней помощи. Он начинал терять сознание, и эти обмороки были далеко не те, которые сопровождали его на протяжение всей жизни, и во время которых он получал коранические аяты. Эти обмороки отличались тем, что поистине подрывали его здоровье, истощали его жизненные силы. Жены прикладывали к горячему лбу Мухаммеда холодные компрессы, пытаясь сбить температуру, но это если и приносило ему облегчение, то только временное. Головные боли становились пронзительней, пульсирующая боль угнетала его.
По просьбе больного его перевели в комнату любимой жены Аиши. То было одной из девяти комнатушек, построенных для жен Мухаммеда во дворе мечети. Комнаты располагались напротив восточной стены мечети. Убранство комнат соответствовало ранним этическим принципам Ислама, то есть отличалось простотой, невычурностью, приоритет принципа равенства давал о себе знать. Комнатку эту можно было назвать хибарой. Стены были построены из грубо обтесанного камня, крыша — из соломы, двери и окна выходили во двор мечети. Обстановка была минимальной: на полу – ковры, в углу каменное ложе со свернутой постелью у изголовья. На этом ложе и спали. Ночью постель расстилали, а утром убирали. Теперь и убирать ее не надо было.
Мухаммед, казалось, боролся за каждый вдох. Самое худшее было то, что наряду с головными болями, появилась болезненная раздражительность к шуму и свету. Причем со светом можно было как-то бороться, навесив занавеси на окна и тяжелое полотно на дверной проем. Но как можно было обуздать шум?
Как и сейчас на Ближнем Востоке, в те времена у ложа больного собирались люди. Родственники, друзья, соратники, просто поддерживающие люди, все те, которые претендовали на близость к центру новой сильной веры. Они шли непрерывным потоком днем и ночью со своими проблемами, советами и вопросами. Мухаммед изо всех сил старался быть в сознании. Но как он мог не принять и не выслушать их, даже будучи таким больным? Уж слишком многое зависело от него.
А снаружи, во дворе мечети, собирались люди и бдели на протяжении всей ночи. Они отказывались верить, что эта болезнь может стать причиной смерти, хотя с другой стороны они прекрасно понимали, что именно эта болезнь уносила жизни многих людей. Они понимали, что может случиться, даже если и пытались не подпускать к себе эту мысль. Поэтому они молились, молились и ждали, а шепот их молитв, неотступный шум людского волнения доходили до него и людей его окружавших. Просители, последователи, благоверные и набожные, все хотели быть там, где можно было услышать первые вести о выздоровлении Пророка, вести, которые затем можно было передавать из уст в уста, пронести по селениям, по Медине, растянувшейся на 8 миль, а затем и донести до Мекки.
Но за последние несколько дней болезнь только ухудшала состояние Пророка, и этот шум во дворе нарастал. Весь оазис был в подавленном состоянии, столкнувшись с непостижимым для него явлением. В воздухе завис вопрос, который был у многих на уме, но который каждый боялся задать вслух. Если вдруг произойдет невероятное, если вдруг Мухаммед умрет, кто же станет его преемником? Кто возьмет в руки власть? Кто поведет общество за собой?
Конечно, было бы проще, если бы у Мухаммеда были бы сыновья. Даже если у него был бы один сын, проблемы бы решались легко и просто. Хотя и не было строгого обычая, что после смерти руководителя власть должна перейти к его первенцу, он сам смог бы остановить свой выбор на младшем сыне или на каком-либо другом близком родственнике. Как правило, если иное не оговаривалось, старший сын становился преемником. Но у Мухаммеда не было сыновей, как и назначенного наследника. Он умирал без завещания, то есть абтаром по-арабски, что означает урезанным, лишенным, обделенным, без потомков мужского пола. Если бы у Мухаммеда был бы сын, может быть, история Ислама пошла бы другим путем. Наверное, не было бы раздоров, гражданских войн, соперничавших халифатов, разделения мусульман на шиитов и суннитов. Хотя первая жена Мухаммеда родила ему двух сыновей и четырех дочерей, оба сына умерли в младенчестве. Мухаммед женился девять раз после смерти Хадиджи, но ни одна жена так и не забеременела от него.
В Мекке и Медине шли слухи об этих браках. Говорили, что большая часть этих девяти браков носили политический характер. Среди правителей той эпохи существовал обычай создавать политические альянсы. Мухаммед выбирал своих жен внимательно, направлял свои брачные союзы на объединение, сплочение новой общины, создание уз родства между племенами и старыми врагами. К примеру, за два года до того, как Мекка приняла Ислам и Пророка, он женился на Умм Хабибе, отец которой долгое время противостоял ему и боролся против него. Но брачные союзы всегда скреплялись детьми. Смешанная кровь являлась новой кровью, свободной от старых раздоров и разногласий. Для предводителя это было решающим фактором брака.
У большинства жен Мухаммеда были дети от других мужей. За исключением самой младшей из жен, Аиши, все жены Мухаммеда были вдовами или разведенными женщинами. У них были дети от предыдущих мужей. И в этом не было ничего необычного. Благосостоятельный мужчина мог иметь до четырех жен. Мухаммеду было дозволено иметь больше жен, чтобы укрепить общество политическими альянсами. Женщины также имели право выйти замуж два, три, даже четыре раза. Разница заключалась в том, что мужчины могли иметь до четырех жен одновременно, а женщины – нет. Женщины могли выйти замуж многократно в результате развода, (а в то время женщины также легко разводились, как и мужчины), или в результате смерти мужа, которые зачастую погибали на ратном поле.
Это означало, что вся Мекка и Медина были в паутине родственных браков. Единокровные братья и сестры, двоюродные братья и сестры, родственники со стороны мужа и жены, все в Исламе были связаны друг с другом по меньшей мере трехкратными или четырехкратными узами. В итоге торжествовала модель, выходящая за рамки современной западной идеи семьи. В Аравии седьмого века возникла широко разветвленная сеть родственных отношений, которая на корню уничтожала фамильное древо, отличавшееся линейной структурой. Фамильное древо на Востоке можно было назвать лесом переплетенных, вьющихся растений, каждое из которых протягивала свои щупальца и обвивалась вокруг других, только потому, чтобы возвратиться и начать заново свою поступь уже в другом направлении. Таким образом, исламская община представляла собой запутанную матрицу родственных связей, независимо от того, откуда, из какого клана или племени они брали свое начало. Тем не менее, происхождение все еще имело значение.
Ходили слухи, что у Мухаммеда был один сын, рожденный им после смерти Хадиджы от Марии коптянки, рабыни из Египта, которая была освобождена Мухаммедом от рабства, и была при нем наложницей. Она жила не во дворе мечети. Ребенка назвали Ибрагимом. Но в отличии от патриарха, в честь которого и был назван этот младенец, он умер в младенчестве, когда ему было семнадцать месяцев от роду. До сей поры неясно, а существовал ли этот младенец? А может его просто придумали как персонаж, подтверждающий мужскую славу Пророка, что так обычно
для культуры, где сыновья считались признаком мужской энергии отцов. Понятно, что любая из жен, окружавших смертное ложе Мухаммеда, отдали бы все, что иметь от него ребенка. Бытность матерью его детей автоматически давало бы жене более высокий статус среди всех жен. Иметь сына Пророка? Его наследника? Не было большей славы! Каждая из жен стремилась стать беременной от него, и больше всего этого хотела Аиша, первая жена, на которой женился Пророк после смерти Хадиджы. (Здесь, скорей всего автор ошибается, ибо Аиша является второй женой после смерти Хадиджи. Первой женой Пророка после Хадиджи была Сауда, вдова погибшего в военных баталиях одного из первых мусульман, женщина не столь красивая и большей частью прислуживающая Пророку, нежели чем ублажающая его страсти – прим.перев.).
Самая молодая, самая любимая и самая одиозная из жен Мухаммеда Аиша страдала бездетностью. Как и другие, она пыталась забеременеть от него, но понапрасну. Не знаю, может быть, то было признаком бесконечной преданности Мухаммеда памяти Хадиджы, женщины, которая оберегала его, когда тот был в шоке, весь дрожал от первого соприкосновения с божественным посланием, с первым откровением Корана, которая заверила его, что он, поистине, является Расул Аллах, Посланником Бога. Может быть, только Хадидже было суждено стать матерью, а ее старшей дочери Фатиме суждено было стать матерью дражайших внуков Мухаммеда, Хасана и Хусейна.
Нельзя утверждать, что Мухаммед страдал импотенцией или не имел способности к деторождению, дети от Хадиджи стали доказательством этому. Нельзя говорить и о бесплодии его последующих жен, ибо все, кроме Аиши, имели детей от предыдущих мужей. Может быть, многократно женившийся Пророк воздерживался, или, как утверждают теологи-сунниты, может быть неимение Пророком детей от последующих жен и стало ценой откровения. Коран был последним и окончательным словом Бога, говорили эти богословы. После Мухаммеда не может быть иных пророков, никто из родственников мужского рода не мог претендовать на особое озарение или близость к божественной воле, что делают шииты. Вот почему два мальчика Хадиджи умерли в детстве, унаследовавшим ген Пророка не суждено было жить на этом свете.
Все мы знаем, что во всех девяти браках после Хадиджи, не случилось ни единой беременности, не говоря даже о сыне, и в этом была главная проблема.
Мухаммед стал человеком, который подчинил своей воле – Воле Бога – весь Аравийский полуостров. Он сумел сделать это за два десятка лет, если считать с того момента, когда небесный ангел Джабраил явился к нему и воскликнул: «Ыгра!» («Читай!»), и раскрыл перед ним первые строки Корана – «Книги для чтения». Ему регулярно приходили другие откровения, на прекрасном арабском языке, на котором так до него никто не писал и не говорил, на языке поэзии, что и служило гарантией божественной природы этой Книги. Ибо как мог безграмотный купец создать столь одухотворяющую читателя книгу? Он был Посланником в буквальном смысле этого слова, то есть человеком, которому было предначертано передать людям откровенное слово Божье.
По мере распространения Ислама по городам, оазисам, кочевым племенам Аравии, люди, принимавшие Ислам, стали жить богаче. Накопленные богатства от налогов и сборов принадлежали всей исламской общине. Но как быть с казной, с землями? Вот здесь и возникал камень преткновения, ибо все упиралось на волю руководителя общины, а именно на того, кого он назначит своим преемником.
Какого продолжения хотел он сам после себя? Это и есть тот вопрос, с которым тесно связана трагическая история суннитско-шиитского противостояния, хотя по своей сути на этот вопрос нет ответа. Ибо во всем, что последовало после смерти Пророка, каждый старался обосновать свои притязания на его мыслях и желаниях. А в отсутствии ясного и однозначного назначения преемника, никто не мог предъявить довод, на котором не лежала бы тень сомнения. И убежденные в своей правоте всегда получали своих сторонников. Вера перевешивала аргументы.
Понятно и то, что Мухаммед знал, что когда-либо он должен будет уйти. А как же иначе? Он не питал иллюзий в отношении своей бессмертности. Конечно, в нем еще бурлила жизнь, поступь Пророка была твердой, пока его не повалила болезнь. Он был крепкого, мускулистого телосложения, лишь вблизи можно было посчитать число седых волос в его густой черной, завязанной ленточкой шевелюре. Может быть, те три покушения заставили его понять, что жизнь его вскоре подойдет к концу. С другой стороны близость смерти порой вдохновляла его, давало ему стимул жить. На самом деле самые серьезные попытки покончить с Мухаммедом и стали поворотными точками в развитии Ислама.
Первое покушение произошло десять лет тому назад, когда его проповеди встревожили знать родной ему Мекки, и он столкнулся с сильным сопротивлением. Призыв Мухаммеда был нацелен на неравноправие городской жизни, ибо вопреки превалирующему образу Аравии седьмого века как страны, ведущей кочевой образ жизни, большая часть этого полуострова вот уже несколько поколений вела все-таки оседлый образ жизни. Но в обществе все еще существовали родоплеменные отношения. Статус человека определялся тем, в каком племени он родился. Самым богатым и могущественным племенем был Курейш, к которому принадлежал и Мухаммед. Это племя относилось к городской элите Мекки.
Курейшиты были купцами, их город располагался посередине торгового пути, тянущегося с севера на юг, по всей западной Аравии. Мекка превращалась в центр не только из-за географического местоположения. В этом городе располагалась Кааба, кубовидная постройка с заключенными в ней многочисленными каменными божествами, многие из которых были потомством более вышестоящего, дистантного бога по-имени «Аллах» («Бог»). Мекка была центром паломничества, а так как во время паломничества по обычаю приостанавливались все конфликты и войны, Мекка слыла безопасным местом для крупных торговых базаров и ярмарок.
Сочетание паломничества и торговли стало весьма прибыльным фактором. Курейшиты умело пользовались комбинацией веры и денег, взимая сборы за доступ к Каабе, пошлины с торговых караванов и налоги с коммерческих сделок. Но вот задача, приобретаемое ими богатство распределялось неравномерно. Традиционный родоплеменной принцип заботиться обо всех членах общины утрачивался при переходе к городскому образу жизни. Поэтому одни члены общины богатели, другие нет. Вот этих других и затронуло первое послание Мухаммеда.
Бедные, потерявшие родителей, порабощенные – все равны перед взором Аллаха, учил Мухаммед. Какая разница, в каком племени ты родился, каков твой род, в какой семье ты получил воспитание? Это не имеет никакого значения. Ни одна группа не вправе возвысить себя над другими. Стать мусульманином, это – отдаться, подчиниться воле Аллаха, это устранить все старые поводы для раздоров. Племя больше не пойдет против племени, богатый никогда не пойдет против бедного. Все едины, одна община, и все должны жить в простоте, но вместе с тем признать, что нет бога кроме Бога.
Таковым было послание Мухаммеда о равенстве, нет спору, то был революционный посул в рамках той эпохи и того региона, где творили первые пророки Палестины. Этот призыв в корне подрывал положение тех, кто управлял благосостоянием города, то было прямым воззванием к нарушению сложившегося статуса-кво. И по мере усиления позиции Мухаммеда мекканская знать прилагала все усилия, чтобы заставить его замолчать. Но все, к чему они прибегали, начиная с очернительства и кончая бойкотом, не давало результатов. Наконец, группа мекканцев, а в группе состояли по одному из каждого рода племени Курейшитов, собрались под покровом ночи у дома, где жил Мухаммед, с приготовленными, заточенными ножами, поджидали, пока он не встанет на утреннюю молитву. Мухаммеда предупредили заблаговременно об этом заговоре, и он ночью втайне покинул дом в сопровождении своего друга и направился на север в Медину, где вначале его приветствовали как миролюбца среди враждующих племен, а затем как предводителя. Именно с момента его ночного побега с целью обретения убежища, с момента его хиджры, переселения, и начинает свой отсчет Исламский календарь. 622-ой год нашей эры приравнен первому году после хиджры.
Под влиянием Мухаммеда оазис Медина превратился в политический центр Аравии, угрожающий затмить Мекку на юге. Борьба за власть между двумя городами вскоре вылилась в два сражения и бесчисленные столкновения, но спустя восемь лет после изгнания Мухаммеда из Мекки, город вконец принял его предводительство. Фатах, это открытие города навстречу Исламу. Кааба переориентировалась на единого Бога, Аллаха, и Мухаммед призвал к единению, приглашая мекканскую знать в первые ряды Ислама.
Друзья могут быть такими же опасными, как и долгосрочные враги. Мухаммед в точности знал, что самые близкие к нему люди могут покуситься на его жизнь. История мира к тому времени уже показывала о существовании такого пути к власти. Назначь преемника, и этот преемник, каким бы он ни был, мог искуситься властью, а значит, мог поторопить события, искусственным образом ускорить ход истории. Искусно приготовленный яд, добавленный в молоко с медом или в ягнятину, отнюдь не являлся чем-то диковинным в Аравии. В действительности, вскоре все эти приемы найдут свое отражение.
По всей вероятности Мухаммед понимал, что назначь он преемника, так сразу начнутся споры и разногласия в новой общине, или, этим он он подкинет полено в огонь уже возникших, но затаившихся раздоров. Этим самым он привел бы в движение механизм взаимных возмущений, обид и недовольств, которые накапливались в людях, стремящихся получить влияние или должность. Так бывает у всех окружающих харизматическую личность людей, что говорить о Пророке. Тем не менее, он старался сгладить все разногласия, но они, доселе существующие под поверхностью, пытались выбиться наружу. Образовывались группировки, выстраивались аргументы, все то, что он строил на протяжение всей своей жизни, казалось, находится на грани разрушения. Может быть, это было неизбежным, и он просто не мог предотвратить неизбежное. Он поставил конец межплеменным войнам и столкновениям, он отдал власть безвластным, он свергнул старую мекканскую знать, выдворил старых языческих богов и основал к тому времени третью великую монотеистическую религию мира. Он достиг того, что казалось невозможным! Но как надо поступить, чтобы это невозможное не распалось после него?
Есть сведения о том, что Мухаммед прекрасно понимал, что случится после его смерти. Есть один хадис о том, что его последними словами были: «Боже, как мне жаль тех, кто последует за мной». Что бы это значило? Было ли сие выражением смиренности? Может быть, то было призывом к Богу помочь его людям? Или Мухаммед на грани смерти уже видел страшенную сагу, полную крови и слез? Нам не узнать этого. Как гласит старая арабская поговорка, одному Богу все известно. Изречения можно истолковать. Мысли можно лишь вообразить. В этом и заключается работа романистов. Мы же должны основываться на главной канве истории, рассказах тех, кто был там. Каждый из них имел свою точку зрения, свой интерес в результате.
Суннитские ученые на протяжении веков твердят о том, что Мухаммед верил в добрую волю и честность всех Мусульман, которые верили в него и Бога, чтобы принять верное решение. Он видел общину саму как сакральный элемент, что означает, что любое решение, принятое общиной, является верным. А шиитские ученые утверждают, что задолго до своей смерти Мухаммед сделал божественно сориентированный выбор и назначил самого близкого к себе родственника, своего двоюродного брата и зятя Али своим преемником. Он делал это много раз, публично, утверждают шииты, и если бы враги Али не подавили бы волю Пророка, то он, вероятно, высказался бы еще раз, в последний раз, когда лежал на одре смерти в этой маленькой комнатенке во дворе мечети.
В последние десять дней жизни Мухаммеда почти каждый, кто более или менее играл основную роль в этой истории, входили и выходили из комнаты Аиши. Среди них выделим шестерых, одну женщину и пять мужчин. Все они были родственниками и были заинтересованы в преемстве Мухаммеда. Двое из них были тестями Мухаммеда, двое зятьями Пророка и двоюродным братом, и все они рано или поздно станут преемниками Пророка. Их назовут халифами, от слова халифа, преемник. Но как это случится, в какой очередности, станет вопросом раздора и разделения на протяжении всех четырнадцати столетий.
Какими бы не были раздоры между сторонниками Мухаммеда, когда тот лежал на одре смерти, все они просто блекли перед враждой Аиши, бездетной любимой жены, в чьей комнате лежал Мухаммед, и Али, самым молодым из этих пяти кандидатов. Али был первым двоюродным братом Мухаммеда, его приемным сыном и зятью, он был самым близким родственником Пророка. Но Аиша и Али, эти два самых близких человека Мухаммеду, вот уже на протяжении многих лет не разговаривали друг с другом даже в присутствии Мухаммеда.
Напряженные отношения между ними накаляли атмосферу в этой комнате, которая становилась удушающей, казалось, что даже сам Пророк не мог предвидеть, как эта вражда определит будущее Ислама. Интересно, как это такой маленький предмет, коим являлось ожерелье, потерянное семь лет тому назад, мог предопределить будущий раскол Ислама?
Глава 2
То было не ожерельем в его современном понимании, а лишь нитью, на которую были нанизаны бисера. Я не знаю, из чего были сделаны эти бисера, из агата, коралла, а может быть, еще проще, из простых ракушек, Аиша никогда не уточняла на сей счет. Она вообще отмахивалась, когда речь заходила об этом ожерелье, словно эти подробности и вовсе не интересовали ее. Не знаю, может быть, она была права. Ведь достаточно было только того, что такие ожерелья носили юные девушки, и что оно было дороже все алмазных ожерелий только тем, что его подарил Аише сам Пророк в день их свадьбы.
Потеря ожерелья и последующий скандал известен под названием случая с ожерельем — вот так, в простонародье, прозвали это событие. Он передавался из уст в уста, ибо тогда еще не было печатных станков, а грамотность слыла достоянием лишь немногих. Ахл-аль-Киса («Обладатели священного покрывала»), хадис о пере и бумаге, сражение верблюдов, тайное письмо, ночь стонов – вот на таких событиях и построена история раннего Ислама. Случай с ожерельем тоже входит в их число, что и понятно, но он отличается от всех других яркими, интимными подробностями. В течение первого столетия своего существования Ислама эти истории отражались не на страницах книг, а передавались устами тех, кто пересказывал эти истории, жили в сердцах и памяти тех, кто слышал о них и хранил их в своих воспоминаниях, чтобы передать их будущим поколениям. И несмотря на то, что прошло много лет, эти рассказы сохраняли в себе присущее им воздействие. То было исходным материалом для ранних исламских историков, странствующих по просторам Ближнего Востока и собиравших по крупицам воспоминания очевидцев. Особое внимание историки обращали на источники этих воспоминаний, они внимательно выстраивали цепь, по которой очевидцы и свидетели передавали из уст в уста свои воспоминания. Эту цепь назвают иснад. Каждое событие предваряется примерно следующей фразой: «Поведал мне С, которому рассказал В, которому передал А, который был свидетелем этого события».
Именно этим методом пользовался Ибн Исхак, когда писал биографию Мухаммеда, Абу Джафар аль-Табари в своей непререкаемой истории раннего Ислама, написанной в тридцати девяти томах, переведенных на английский язык, Ибн Саад в своей великолепном сборнике коротких рассказов и аль-Балазури в «Родословии знатных». Этот процесс необычайно открытый, он позволяет наблюдать за ходом передачи сведений и знаний и установления фактов, процесс в стиле «Расемон» (фильм Акиро Куросавы, где впервые в кинематографе одно и то же событие было передано в шести интерпетациях, то есть показано с точки зрения шести персонажей – прим.перев.), который достоин уважения только из-за того, что допускает наличие нескольких взглядов на одно и то же событие, даже если они немного отличаются друг от друга.
Несмотря на то, что Аль-Табари был суннитом, написанная им история раннего Ислама признана даже шиитами. Объемистость и обстоятельность этой книги являются неотъемлемыми элементами метода автора. Он говорит об одних и тех же событиях вновь и вновь, почти навязчиво, устами разных людей, разнящиеся варианты перекрывают друг друга и расходятся в том, что нам кажется удивительно постмодернистским веянием. Аль-Табари прекрасно понимал, что правда в устах человека субъективна. Каждый из нас в какой-то степени искажает правду. И если нужно получить объективную картину произошедшего, надо собрать воедино все воспоминания об этом случае. Вот почему он заключает все собранные версии знаменитой фразой: Только Богу Одному доподлинно все известно.
Читая эти голоса седьмого века, ты ощущаешь себя среди сплетен обширной пустыни, густой паутины информации, бросающей вызов ограниченности пространства и времени. Поскольку они рассказывают нам о том, что видели или слышали, что один сказал, и как другой ответил, их язык иногда поражает нас своей лаконичностью, что вовсе не присуща обычной истории. В их пересказах присутствует привкус жизненной энергии, реальных людей, живших в ту потрясающую в буквальном смысле эпоху, в той культурной среде, где язык проклятий был столь же развит и богат, как и язык благословений. И в самом деле, и проклятия, и благословения заняли особое место в том событии, которому суждено было случиться.
Мухаммед, который стремился объединить разрозненные племена Аравии под единым знаменем Ислама, проводил военную кампанию. Как правило, эти полномасштабные экспедиции занимали недели или даже месяцы в ту эпоху, и обычно он брал в них как минимум одну из своих жен. Никто из жен так не стремилась поехать в такие экспедиции, как Аиша. Для энергичной девушки, горожанки, эти путешествия были истинно захватывающим развлечением. Медина тогда не была городом в том понимании, в котором мы сегодня его представляем. Пристанище Пророка являлось скоплением деревушек, в каждой из которых проживало одно племя. Каждое племя располагало свои жилища вокруг укрепленной усадьбы. Такая конфигурация Медина выглядела довольно урбанистичным для кочевников, которые тосковали по своему прошлому. Длинные стихи чествовали чистоту пустыни, смягчали ее суровость мыслью о духовном благородстве, потерянном в удобствах оседлой жизни.
Для Аиши такие поездки были сплошной романтикой. Она получала неимоверное удовольствие, когда выезжала из зеленой полосы Медины и попадала в изрезанное, негостеприимное окружение гор, которые словно непроходимые чудища разделяли Медину от центральной и северной части Аравийского полуострова. Они прозвали его Хиджаз, что означает «барьер». После Хиджаза на 700 милей простиралась сухая степь, пока земля вдруг начинала погружаться в пышный речной бассейн, известный под названием аль-Ирак, что с персидского означает низменность.
То было шансом для Аиши открыть для себя сказочную чистоту пустыни, посмаковать каждую деталь, любоваться, как это делали ведущие их проводники, ключами, бьющими глубоко в расщелинах горных скал, прорытыми колодцами, каждой низиной, где внезапные зимние дожди образовывали половодья, которые в течение нескольких дней исчезали. Этим проводникам не нужны были карты, компасы, они все держали в своей памяти. Они были гуру путешествий.
Сидя в хауде на горбу верблюда, а хаудой называли корзинки из тростника с навесом, она смотрела на стада верблюдов и табуны лошадей, на финиковые пальма оазисов Хайбара и Фадаки, расположенные изумрудной цепочкой в ветреных долинах, на золотые и серебряные рудники, добывающие большую часть богатств Хиджаза, на бедуинских воинов отдаленных племен, которые были так романтичны взору этой городской девчонки. Она наблюдала и слушала затянувшиеся переговоры с племенами, которые сопротивлялись и не хотели признавать Мухаммеда и ислам, надеясь на мирный исход. Она могла надеяться и на то, что переговоры прекратятся, и единственным выбором станет меч, и мир вокруг нее перейдет к решительным действиям, а голоса мужчин дорастут до хрипоты, раздадутся кличи, воздух заполнит лязг оружий и едкий запах крови. Именно во время таких путешествий она впервые познакомилась с боевыми кличами, которыми можно было подстегнуть из тыла мужчин к боевым действиям. Женщины Аравии седьмого века не были «божьими коровками», и меньше всех на это имя претендовала сама Аиша, известная своим острым языком и пронзительным умом. Она научилась проклинать врага, восхвалять мужество своих сторонников, призывать свое окружение к совершению новых подвигов. Она вспомнит все это годы спустя, в гуще боя, когда воины будут готовы отдать за нее жизнь. Она знала, что ее брань устрашает людей, мощный и жуткий голос Аиши приобретала пронзающую окружавших ее воинов тональность, которой она была известна, по которой можно было безошибочно установить ее владелицу. На этот раз язык и ум этой девочки ее подвели.
Стемнело, когда караван решил остановиться и разбить лагерь перед последним броском в Медину, который удобней было бы совершить в ранние предрассветные часы. В прохладную пору Аиша отошла от лагеря примерно на сто ярдов, чтобы испражниться за удлиненным кустарником ракитника, как это обычно делают женщины, когда путешествуют по пустыне и ищут приватное место для этого. Она вернулась к верблюду, когда караван собирался отправиться, и уселась в свою хауду. Усевшись, она прикоснулась рукой к шее и обнаружила отсутствие ожерелья, подарка Мухаммеда. Сердце екнуло у Аиши.
Она поняла, что случилось. Нить, зацепившаяся за колючий кустарник, оборвалась, и бусинки незаметно рассыпались по песку. Но если это случилось там, у того куста ракитника, то почему бы не попытаться найти это ожерелье. Никого не предупредив, она соскользнула из корзины вниз и отправилась на поиски ожерелья.
Даже для молодецки настроенного, целеустремленного человека потребуется больше времени найти бусинки в сумерках пустынной ночи, чем время, за которое вознамерилась найти их эта девочка. В сумерках кустарники все одинаковы. Когда она нашла тот самый кустарник, она опустилась на колени и, пропуская между пальцев песок с грудой мертвых опавших игл, она начала находить те самые бусинки. Вскоре она их собрала в связанный узлом подол своего халата и торжествующей походкой возвратилась в лагерь. Но не тут-то было! Каравана на месте не было. Осталась Аиша одна посреди пустыни. И до сей части случившегося вопросов, вроде, нет. Ее эфиопская рабыня видела, как она влезает в хауду. Но никто не видел, как она незаметно выскользнула из нее. Все думали, что она находится в хауде, и так как навес со всех сторон был задернут, все посчитали, что Аиша не хочет, чтобы ее побеспокоили. Так и двинулись в путь. Зато появляются вопросы к последующей части этого события. Что же случилось потом? А для многих вопрос стоял иначе: а чего же не было потом?
Аиша не стала бежать за караваном, даже, несмотря на то, что след каравана отчетливо виднелся на песке. Она даже не дернулась, хотя по всем меркам караван не должен был далеко уйти. Нагруженные добром верблюды, как правило, шагают медленной поступью. Ей было просто догнать караван в пешем порядке, особенно в самую рань, когда солнце еще не успело припечь, когда прохлада пустынной ночи еще висела в воздухе, когда воздух еще сохранял свою бодрость и свежесть — вопрос времени и не более того. Вместо этого она по своим собственным словам закуталась в свой халат, легла там, где стояла, уверившись в то, что все равно узнав о пропаже они вернутся.
О том, что ее отсутствие может пройти незамеченным, Аиша вообще не думала. Она считала, что караван обнаружит ее отсутствие и направит за ней отряд. Как жена Пророка, она обладала привилегированным положением. Ожидать от нее того, что она начнет бежать за караваном, пытаясь настигнуть его, это ожидать обычной реакции простой девочки. Но она ведь не было простой, она была исключительной, и всю жизнь свою твердила об этом окружающим.
Для начала, исключительным она называла свой возраст, когда она вступила в брак с Мухаммедом. Аиша была почти ребенком, и как она утверждает, стала женой Пророка в шесть лет. А в девять лет по ее словам они сыграли свадьбу. Это может показаться маловероятным, но мало кто осмеливался спорить с ней об этом. Вообще, с ней старались не спорить. Много лет спустя один из прославленных халифов как-то скажет: «Не было того, о котором я не хотел бы говорить, а она хотела, и наоборот, о котором я хотел бы говорить, но она не хотела».
Аиша, действительно, вышла замуж очень рано, и другие это отмечали в тот период. Последние факты говорят о том, что ее обручили в девять лет, а в двенадцать она вышла замуж, ибо закон был таков, что девочки могут выйти замуж только после полового созревания. Тем не менее замужество в обычном возрасте делали Аишу обычной девочкой той поры, но быть обычной ей всегда не хотелось, она хотела быть иной.
К концу своей жизни, которая была завидно долгой по сравнению с другими действующими лицами этой истории, ибо она пережила их всех, она напоминала каждому, кто слушал ее, что она обладала другими качествами: она была не только самой молодой женой Мухаммеда, но также самой чистой, единственной, которая не была разведенной или вдовой, она была девственницей при браке. И самое важное, она была самой любимой женой Мухаммеда.
Хумайра, «моя рыженькая», так он называл ее, хотя она была по рождению не рыжей. Если бы она была рыжеволосой, то это привело бы ко многим перетолкам в темноволосой Аравии. На самом деле она сама, никогда не стыдясь своих слов, говорила бы много об этом. Но двойная порция хны сделали ее волосы темно рыжими, и в этом была ее цель – выделяться среди всех, подчеркнуть свое отличие.
Она была первой из девяти жен Мухаммеда, на которой он женился после смерти Хадиджы. Предложение шло от ее отца, близкого и старейшего друга Мухаммеда Абу Бекра. Абу Бекр, чтобы отвлечь Мухаммеда от траура, сделал такое предложение. Легко понять почему. Смелая и неугомонная Аиша могла бы его вернуть к жизни. По ее рассказам, она дразнила его, смеялась над ним, и это сходило ей с рук, и вместе с тем за это ее любили. Мухаммеду, казалось, нравилось девичье озорство. Он словно любящий отец смотрел на избалованную дочь и был очарован ее шаловливостью и обаянием.
Она, должно быть, была как обаятельной, так и определенно нахальной девочкой. Порой обаяние исчерпывает себя, по меньшей мере, в наше время это сплошь и рядом имеет место. Позже, когда Аиша рассказывала о своем браке, она подчеркивала свое влияние и боевой настрой, но в ее рассказах также присутствовала та самая грань, чувство девушки, чтобы ее не перехитрили и не обошли, или ощущение человека, который так легко переходит от боевитости к низости.
Однажды Мухаммед потратил много времени, чтобы Аиша поладила с его другой женой, которая готовила «медовый напиток» для него – это, вроде, арабских сливок, изготовленных из густо взбитых яичных белков, меда и козьего молока — к этому напитку Мухаммед испытывал слабость. Когда он явился к ней в комнату и сказал ей, почему он задержался, она сделала гримасу, и зная, что Мухаммеду не нравится неприятный запах изо рта, поморщила нос. «Пчелы, собравшие этот мед, видать наелись полыни», — отметила она и была вознаграждена. Когда Мухаммеду в следующий раз преподнесли этот медовый напиток, он вежливо от него отказался.
В другой раз она пошла еще дальше. Однажды Мухаммед захотел заключить альянс с основным христианским племенем, принявшим Ислам, и собирался жениться на дочери предводителя племени, девушке, известной в округе своей красотой. Когда невесту привезли в Медину, Аиша добровольно захотела помочь ей в свадебных делах, и под видом заботы о ней она дала совет невесте. Чтобы Мухаммед еще больше полюбил ее в свадебную ночь, Аиша научила невесту сопротивляться мужу и произнести следующие слова: «Аузу биллахи минке», что означает «Ищу убежища у Аллаха от тебя». Новая невеста не понимала смысла этих слов, а ведь этой фразой аннулируется брак. И когда она в брачную ночь произнесла эти слова, Мухаммед встал с постели и покинул ее. А на следующий день ее отправили к отцу.
Короче, Аиша привыкла вершать все по-своему. Поэтому, когда ее забыли в пустыне, она не стала искать альтернатив. И когда солнце поднялось высоко над головой, она чуть запаниковав, нашла себе место под тощей акацией. Тень деревца становилась все короче и короче, но никто не приходил. Она никогда бы не призналась бы в этом, даже самой себе. Да, она заблудилась. Да, за ней должны были кого-то послать. Ну не будет же Аиша, любимая жена Пророка, бежать за верблюдами, как простая пастушка. Это было бы для нее слишком унизительно.
Вскоре кто-то подошел к ней, один, без сопровождения, хотя она и ждала отряд. В действительности, караван никого не выслал на ее поиски, ибо никто, покуда караван не прибыл в Медину, покуда сотни верблюдов не были разгружены и не встали в свои стойла, покуда толпу воинов не встретили родные и близкие, и не знал, что она осталась в пустыне. А ее служанка подумала, что Аиша, тихо соскользнув с корзины, пошла проведать свою мать. Мухаммед был слишком занят, чтобы думать о ней. Все просто полагали, что она в Медине.
К счастью Аиши, а может быть к ее беде, некий молодой мединский воин задержался и ехал по пустыне в одиночку под жаром солнца, чтобы догнать свой караван. Вдруг он увидел девушку, лежащую под акацией.
Его звали Сафван, и в этом, Аиша поклялась, был акт рыцарства, чистого как пустыня, рыцарства. Он узнал ее, спешился, помог ей взобраться на верблюда и пешим ходом повел верблюда по горячим песками все 20 миль в Медину. Перед наступлением ночи все в Медине стали свидетелями, как жена Пророка часами позже после приезда основного каравана въезжает в Медину на верблюде, за узды которого держит красивый молодой воин.
Она, должно быть, почувствовала нечто неладное, когда испытала на себе полные удивления взгляды людей. Нужно было видеть, как они пятились назад, ни один из них так и не сказал: «Слава Богу, жива и здорова». Нужно было видеть, как они переглядывались друг с другом и бормотали про себя, когда она проезжала. Какая разница, как грациозно она сидела на верблюде Сафвана, как высоко держала голову и как пренебрежителен был ее взгляд, она, наверное, слышала, как стали метать языками жители, как дети побежали вперед и кричали это слово, и должно быть знала, что это слово означало.
Зрелище было уж слишком притягательным. Самая юная жена Пророка ехала наедине с мужчиной в расцвете сил, причем ехала через деревни, расположенные в долине Медины. В считанные часы слухи об этом событии заполонили оазис. Ожерелье? Да что вы! – начали кудахтать вокруг. А что можно ожидать от этой бездетной девушки, вышедшей замуж за человека, перевалившего пятый десяток лет? Весь день в пустыне с молодым воином? Почему это она вдруг села и стала ждать, когда могла побежать и настигнуть караван? А может это все было заранее подстроено? Любимая жена обманула Пророка?
Верили ли они в то, что говорили, не имело значения. Как и сегодня, в седьмом веке любой скандал имел свои последствия, особенно если он касался интимной сферы. Но что являлся более важным, скандал вторгался в существующую политическую расстановку сил в оазисе. То, что Сафван делал или не делал в пустыне, отходило на второй план. Речь шла о репутации Мухаммеда, о его политической позиции.
Любое пятно на Аише было пятном на ее роде. Но это пятно касалось двух самых близких к ней людей: человека, который отдал ее в жены, и человека, который взял ее в жены. Отец ее, Абу Бекр, был единственным спутником Мухаммеда в ту самую ночь, когда они под покровом ночи убежали из Мекки в Медину. И этот факт выделял Абу Бекра среди других мекканцев, превративших Медину в новый силовой центр Аравии. То, что мединцы называли мекканцев переселенцами (мухаджирами), говорило о том, что мединцы все еще считали их иноземцами. Их уважали, конечно, но не так радушно принимали. Над переселенцами витал дымок пораженцев, которые, потерпев поражение, прибыли в Медину, кое-как обустроились здесь, но все-таки были незваными гостями. Лишь те из мединцев, коих называли ансарами, то есть помощниками, были рады таким обстоятельствам. В политике Медины седьмого века, как и во всем мире сегодня, возникновение любой непристойности вызывает такое же отвращение, как сама непристойность.
Что о говорить о мединцах, даже среди переселенцев, мухаджиров, были такие, которые считали, что пора семью Абу-Бекра поставить на место, сбить с них спесь, а особенно с той молодой особы, возомнившей себя непревзойденной. Женщины ее ненавидели. Дочери Мухаммеда, не говоря уж о его других женах, просто изнывали от ее самолюбования. И вот, впервые, эта юная дева, столь напористая в своих рисовках, уверовавшая в свою исключительность, оказалась в таком неловком положении.
Несомненно, Аиша не была виновной в выдвинутых людской молвой обвинениях. Да, она была молода и упряма, но в политическом чутье ей нельзя было отказать. Рисковать всем своим положением, не говоря уже о положении своего отца, ради чего, баловства и шалости? Не могло быть и речи. Любимая жена Пророка общалась с простым воином, даже не из благородных кровей? Она даже в мыслях не смогла бы представить такого. Сафван вел себя так, как она и предполагала, благородно, словно рыцарь, подоспевший и вызволивший ее из беды. А все то, что потом наплели об этом, было чистой инсинуацией и клеветой. Как можно было даже подумать об этом?
Конечно, Мухаммед об этом не думал. Он просто сожалел о том, что по неосторожности оставил свою молодую жену в пустыне. Первым он отмел все слухи, он был убежден, что рано или поздно все эти слухи сами собой отойдут. Но в этом он жестоко ошибался, он просто недооценил настроения в оазисе.
На следующий день стихоплеты стали писать стишки. Они выполняли роль современных журналистов желтой прессы, авторов газетных колонок, блогеров, затейников. Разумеется, написанные ими стихи были вовсе не лирическими одами, а в большей степени традиционной формой арабской поэзии – сатирой. Приукрашивая сие событие всякого рода каламбурами и двойными смыслами, они неудержимо повторяли сплетни и наращивали силу последних даже больше, чем если бы эти сплетни просто распространялись в людской среде. Колючие рифмующиеся куплеты словно копья разили, словесные атаки имели сильное влияние в обществе, где союзы создавались на устных обещаниях и рукопожатии, а мужчинами считались люди, верные слову своему. Вскоре весь оазис погрузился в пыл глумящихся измышлений. У колодцев, в огородах, в финиковых садах, в гостиных домах и на рынках, в конюшнях, и даже в самой мечети, по всей долине Медины, люди смаковали в мельчайших реальных и воображаемых деталях, как и сейчас они делают, как и будут делать в будущем, все «вкусняшки» этого события.
Как можно было бы в этой ситуации не отреагировать на этот вопрос? И дело было не в том, что Аиша была невиновной, ее надо было считать невиновной. Он хорошо понимал, что его власть и полномочия распространяются только на Медину, он прекрасно знал, что Мекка, расположенная к югу от Медины, все еще оставалась оппозиционной, несмотря на два основных сражения, и последующий пятилетний мир. Тем временем эти сатирические стишки уже достигли Мекки, и мекканцы откровенно ликовали.
Мухаммед оказался в двойной ловушке. Если он развелся бы с Аишой, то это означало признание того, что его обманули. Если бы он ее принял обратной в свой дом, то это означало бы, что этот заботливый старик одурачен скользкими проделками жены. Любое решение подрывало не только авторитет Мухаммеда, но и устои ислама. Невероятно, но факт, судьба ислама зависела от репутации этой девушки.
Между тем он удалил Аишу из ее комнаты во дворе мечети и отправил ее в дом отца Абу Бекра. Там ее держали взаперти, подальше от любопытных глаз и ушей, под предлогом того, что она внезапно заболела, и чтобы поскорей выздороветь, лучше ей быть в доме родителей. На это сплетники не подкупились, никакая это не болезнь, просто она скрывалась там от стыда и срама.
Впервые в своей жизни, Аиша ничего не могла сказать, и как один из ранних историков Ислама заметил, «она говорила очень много», но толку не было. Она попыталась выразить негодование, показать раненную гордость, проявить ярость против клеветы, но ничто не возымело действия. Годами позже, когда речь заходила об этом случае, она называла Сафвана импотентом, который «никогда в своей жизни не касался женщин», бездоказательное заявление, ибо к тому времени Сафван был уже мертв, убит в одном из сражений, и посему не мог выступить в свою защиту.
Аиша оказалась в тяжелом положении. И в конце концов пришла к тому, к чему приходит любая девушка, она просто заплакала. И даже об этих слезах начали складывать сплетни, что также можно было объяснить теми обстоятельствами. Как она скажет позже: «Я проплакала две ночи и один день, мне казалось, что печень разорвётся от слез моих».
Вы можете сказать, что это был лишь случаем, пусть даже неприятным. Вы можете охарактеризовать этот случай, подобно многим консервативным мусульманским священнослужителям, как пример того, когда женщины не желают ограничиваться ведением домашнего хозяйства, а предпочитают играть активную роль в общественной жизни. Вы можете возразить и назвать все это старым приемом обвинения женщин в истории. Или же вы можете заявить, что проблемы, связанные с Аишей, были неизбежны, с учетом ее характера, и что самое главное, с учетом той ненависти, которая она испытывала к первой жене Мухаммеда.
Мухаммед женился впервые на богатой вдове-купчихе. Ей было сорок, ему двадцать пять. Хадиджа была именно той женщиной, которой он был верен в моногамном браке до самой ее смерти. Именно в ее руках он нашел приют и утешение от ужасов и страха откровения, именно ее голос заверил его и подтвердил чудодейственную обоснованность его миссии. Какая разница, сколько раз он после нее женится? Он будет лишен тех чувств, которых он испытывал к своей первой жене.
Как могла эта девчонка осквернять память об этой женщине? Но кто, как не она, могла бы воплотить в жизнь эту свою мечту?
«Я не ревновала Пророка ни к одной из его жен так, как ревновала его к Хадидже, хотя и не застала ее – Пророк так часто вспоминал ее», — скажет она много лет спустя. Сказанное было явной неправдой. Всякий раз, когда при ней упоминали красоту той или иной жены Пророка, Аиша бушевала. Но в центре ее ревностных чувств стояла фигура Хадиджи. Первая жена Мухаммеда была просто неприступной, ибо была мертвой на тот момент. Он все это прекрасно понимал. Однажды своими проказами Аиша зашла слишком далеко, осмелившись обратит ьсвой острый язык на Хадиджу. В тот же миг Мухаммед ее одернул. Казалось, что этим вопросом она хотела привлечь Мухаммеда к своей собственной красоте. Этот вопрос могла задать именно девушка, и только пожилая женщина могла вспомнить и сожалеть об этом вопросе много лет спустя. Юная Аиша так и спросила Мухаммеда: «Почему ты так часто вспоминаешь давно почившую беззубую старушку, когда Аллах дал тебе вместо нее нечто лучшее?»
Можно увидеть, как она кокетливо дразнила мужа, не ведая о воздействии этих слов. Но факт остается фактом, эта молодая и жизнерадостная девушка явно неуважительно относилась к старой умершей женщине. И если Аиша и думала, что могла получить преимущество над Хадиджой, ответ Мухаммеда остановил ее, сказав: «Поистине была она (и Пророк с похвалой отозвался о ней), и Бог дал мне от нее детей, и воздержал оное от других жен».
Вот так! Своими высказыванием Пророк не только превознес Хадиджу, запретив ее критиковать, но и поставил в вину Аиши ее бездетность. И хотя она была девственной невестой Пророка, в обществе, где женщина приобретает статус через материнство, этого было явно недостаточно, матерью она не была и никогда не будет. Не отсюда ли проистекает ее непреклонность, а, может, она всегда была такой целеустремленной? Одно могу сказать – именно это качество заставило ее полностью преобразиться. После смерти Пророка эта бездетная девушка наречет себя главой Матерей правоверных, именно так называли себя вдовы Мухаммеда. Она будет одной из тех, кто будет выступать и говорить за всех них, которая потом переименует себя в Мать правоверных, облечет себя властью, подтверждения которой будет добиваться у каждого правителя, и, надо сказать, влияние этой женщины так и осталось недооцененным. Бездетная мать стала матерью всех мусульман. Дерзкая, упрямая, откровенная даже в те моменты, когда это отражалась самым наихудшим образом на ней, Аиша стояла в центре этой истории и была способна заплести кознями любого человека, вошедшего в ее круг. Любого человека, кроме одного, и именно к этому человеку и направился Мухаммед за советом, как быть в этой истории с ожерельем.
Глава 3
Если и был человек, который по всем канонам должен был стать преемником Мухаммеда, им был Али, первый двоюродный брат Пророк, человек, чье имя можно присвоить ко всей шиитской общине. Они были и являются последователями Али, их так и называют на арабском «шиа-ат-Али», а вкратце, шиа.
Али был первым, кто вступил в новую веру и принял Ислам. Ему было тринадцать лет, когда это произошло, и он называл это событие самым знаменательным в своей жизни. А случилось это после первой шокирующей встречи Мухаммеда с ангелом Джабраилом. Весь в страхе Мухаммед побежал домой и попал в ласковые руки Хадиджи. Она заверила его, что «поистине, то был ангелом, а не дьяволом, и ты будешь пророком всех народов». Он тогда позвал всех своих ближайших родственников и попросил у них поддержки. «Кто из вас поможет мне в этом деле?» — спросил он.
Али впоследствии вспомнит: «Все отвернулись от Мухаммеда, а я, хотя и был самым юным среди них, самым болезненным в зрении, самым тучным в теле и самым худым в ногах, сказал Пророку, что буду его помощником в этом деле».
Слаб в зрении? Тучен? Худ в ногах? Это, что, шутка? Что-то самоописание двоюродного брата Мухаммеда вовсе не похоже на описание самого мужественного и в то же время нежного воина в ярких доспехах, столь популярного среди правоверных шиитов, питающих чуточку отвращения к визуальной характеристике, данной суннитами. Если посмотреть на портреты Али, которые вывешены в киосках, на улицах в любом шиитском городе, от Ливана до Индии, то на них изображен отнюдь не неловкий подросток, а вполне красивый мужчина сорока лет. Аккуратно постриженная борода на крепком подбородке, четкие брови, темные глаза, устремившиеся вдаль. В его портрете можно увидеть некую схожесть с портретом Христа, за исключением того, что Али был образцом физической выносливости и силы.
Прежде всего отметим меч Али. Иногда он держал его за спиной, порой клал на колени. Этому мечу суждено было прославиться в исламском мире больше, чем знаменитому Экскалибру короля Артура в христианстве. Как и Экскалибур этот меч обладал сверхъестественными качествами. Меч звали Зуль-Фикар, то есть «Разделенный надвое». Наконечник меча был в форме раздвоенного острия, подобно змеиному язычку. В действительности, не меч, а плоть, в которую проникал этот меч, разделялась, и, наверное, правильней было бы перевести название этого меча как «рассекающий надвое» или «разрубающий надвое».
Прежде это меч принадлежал Мухаммеду, но потом он передал, можно сказать, завещал его, Али. И после отважных поединков Али, его непомерного участия в сражениях, где он не раз получал раны, Али присвоили едва ли не самое лучшее имя, которое когда-либо можно было получить из уст Мухаммеда – Асад Аллах, Лев Бога. Вот почему Али часто изображают с пышногривыми львами, присевшими у его ног и спокойно взирающими вдаль, все это подчеркивает неумолимую силу этого человека.
Имя Лев Бога охватывает духовные и физические силы Али. Глядя на многочисленные изображения Али, у вас складываются именно такие ощущения. Высокие скулы, подведенные сурьмой глаза, зеленая кефиййа, искусно обернутый вокруг головы и ниспадающий до плеч головной убор зеленого цвета, цвета Ислама, цвета знамени рода Мухаммеда, цвета, пробуждающего непринужденность в действиях и подчеркивающего изобилие для обитателей холмистых пустынь Аравии. Так изображен Али, совершенная личность Ислама.
Так мог ли он быть в свои тринадцать лет близоруким, тонконогим подростком? Шииты утверждают, что изображения Али вовсе не являются его портретами, они являются представлениями людей, отраженными на полотнах. Они выражают ощущения этого человека, наставником и опекуном которого был сам Мухаммед, человека, введенного Пророком в святую святых – во внутренний гностический мир Ислама, личности, чье постижение Ислама намного превосходило веру других. Какое имеет значение, был ли он при жизни красив или не красив? Своей душой, которая по сей день обитает среди нас, он был сильным, а по влиянию и уважению, он все еще остается сильным до сих пор, сильней, чем даже в его бытность.
Мухаммед, услышав первые слова племянника о непоколебимой приверженности, наверное, узрел эти будущие качества Али. «Он обнял меня за шею, — вспоминает Али, – и сказал, что отныне он мой брат, мое доверенное лицо и мой преемник среди вас, так что надо его слушаться и повиноваться. Все вокруг засмеялись, встали со стола, иронизировали отцу, смотри-ка, он велит слушаться и повиноваться сыну твоему». Не кажется ли вам, что своим назначением Али своим преемником, открытием для присутствующих истоков Ислама, Мухаммед начинал революционные преобразования в обществе, разрушая традиционный авторитет отца в глазах сына, низвергая старые традиции и водружая взамен них новые. Ни одно племя не будет более господствовать над другим. Ни один клан не будет доминировать над другим внутри племени, и ни одна семья не будет главенствовать внутри рода. Все будут равными перед взором Бога, и все будут достопочтенными членами новой исламской общины.
Тем не менее, как сам Али отмечал, его никто не воспринимал всерьез. В действительности, никто не верил в серьезность сказанных слов. Али был просто юнцом, только-только набирающимся сил, чтобы поднять тот самый Зуль-фикар, а Мухаммед был человеком без собственных средств, сиротой, который воспитывался в доме дяди, и который если и имел богатство, так только через свою жену Хадиджу. Никто не придавал значения тому факту, что этот обыкновенный с виду человек, каким его знали все родичи вокруг, внезапно объявил себя посланником Аллаха. Само это объявление казалось родичам абсурдным, не говоря уже о назначении им преемника. Ведь того, что можно было бы унаследовать этим преемством, не было. В тот момент в Исламе было только три верующих Мухаммед, Хадиджа и Али. И какой же рационально мыслящий человек мог представить себе в тот самый миг, что Ислам будет расти и превратится в новую веру, объединит под своим знаменем Аравию и станет основой огромной земной империи? Мухаммед в ту пору был неимущим.
Изменения грядут в следующие два десятилетия. По мере распространения уравнивающего всех послания Ислама, авторитет Мухаммеда стал расти, когда племя за племенем, город за городом начинали принимать Ислам и платить дань в форме налогов. Новая умма, община Ислама, росла и в силе, и в богатстве. К моменту смерти Мухаммеда можно сказать весь Аравийский полуостров уже принял Ислам, все проживающие здесь имели единую арабскую идентичность. Мухаммед ясно продемонстрировал всем степень близости человека, первым поверившего ему, когда вокруг распускали язвительные шутки.
«Али – от меня, и я – от него, и он покровитель каждого верующего после меня», — говорил он. Али был для Мухаммеда, как Аарон для Моисея: «Никто не любит Али, кроме верующих, никто не ненавидит Али, кроме отступников». И не удивительно, что Али станет покровителем знаний и понимания веры, особенно в суфизме. «Я город знаний, а Али врата этого города» — знаменитое высказывание Мухаммеда. Шиитские ученые доселе утверждают, что именно эти выражения и являются доказательством намерений Мухаммеда сделать Али своим преемником. Но ни одно из этих выражений не имела ясного смысла назначения преемника. Ни одно из этих выражений не звучало так: «Это человек, кого я назначаю своим преемником после своей смерти». В воздухе витало только подразумевание, и если смысл этих речей было конкретным, неопровержимым доказательством для одних, для других они казались двусмысленными.
Но одно было недвусмысленно. Никто из них, ни сунниты, ни шииты, не отрицают особую близость Мухаммеда и Али. В действительности, эти люди были так близки, что в самый опасный миг Али самоотверженно замещал Мухаммеда.
А случилось это тогда, когда мекканцы задумали убить Мухаммеда, накануне бегства Мухаммеда в Медину. Заговорщики ждали рассвета, когда Мухаммед выйдет из дома. Даже в своих преступных намерениях они подчинились арабскому обычаю, запрещающему убивать кого бы то ни было в собственном доме. Али организовал бегство Мухаммеда, и тот со своим другом Абу Бекром под покровом ночи покинули свой дом. А сам Али выступил в роли приманки. Он улегся спать, прикрывшись туникой Мухаммеда. Когда утром Али вышел из дома, рискуя собственной жизнью, заговорщики поняли, что перед ними не тот, кого они поджидали всю ночь. Таким образом, Али подменил Мухаммеда той ночью и спасся сам, смиренно проделав долгое путешествие в Медину в пешем порядке.
В известном смысле, казалось, судьбой было суждено Али заместить Мухаммеда. Несмотря на разницу в возрасте в 29 лет между двоюродными братьями, то было в высшей степени взаимностью в их отношениях, ибо каждый из них находил убежище еще мальчиком в доме другого. После смерти отца осиротевший Мухаммед воспитывался в доме дяди Абу Талыба еще задолго до рождения Али, и годами позже, когда Абу Талиб переживал нелегкие финансовые времена, Мухаммед, к тому времени женившийся на Хадидже и ведущий торговый бизнес, который унаследовала Хадиджа от своего богатого мужа, взял к себе в дом младшего сына своего дяди. Али рос с четырьмя дочерьми Мухаммеда и стал сыном Мухаммеду и Хадидже, у которых не было сыновей. Пророк стал ему вторым отцом, Хадиджа – второй матерью. Пройдет время и узы родства между ними станут еще крепче. В действительности, они свяжутся узами трижды. Словно родство Али было не столь близким, а он был Мухаммеду племянником и приемным сыном. Он также женился на старшей дочери Мухаммеда, Фатиме, несмотря на то, что были и другие, которые добивались ее руки. А ведь среди добивавшихся руки старшей дочери Мухаммеда были и те двое, которые впоследствии станут бороться против преемства Али – отец Аиши, Абу Бекр, близкий друг Мухаммеда, спутник Пророка в его переезде в Медину, и известный воин Омар, выведший Ислам за пределы Аравийского полуострова и распространивший его на весь Ближний Восток. Но тогда как Абу Бекр и Омар дали своих дочерей в жены Мухаммеду, он не стал отвечать тем же самым, а выдал свою дочь за Али.
В этом браке было одно отличие. Чтобы показать особое отношение к этому браку, Пророк не только сам проводил брачную церемонию, но и поставил условие: новая пара должна будет следовать образцу его брака с Хадиджой, а именно брак должен быть моногамен. Казалось он говорил, что Али и Фатима будут новыми Мухаммедом и Хадиджой, и что у них будут сыновья, которых не было у Пророка с первой женой.
И вот у человека, который лишен был иметь своих сыновей, появились два обожаемых внука – Хасан и Хусейн. Прошел всего год, и эти два внука стали жемчужинами в глазах деда. Говорят, что нет любви чище, чем любовь деда к внуку. И Мухаммед при жизни стал заботливым и гордым дедушкой. Он так любил подкачивать на коленях своих внуков часами, целовал и обнимал их. Он был бы рад на какой-то миг забыть обо всех своих заботах, лишиться всех своих достоинств и славы Посланника Аллаха, чтобы просто опуститься на четвереньки и нести на своей спине своих внуков, пинающих его в бока и визжащих от восторга. Эти два мальчика были его будущим, будущим Ислама, как это видели шииты, и с помощью отцовства Али, единственного человека после Мухаммеда верного Хадидже, делало это будущее возможным.
Когда умерла Хадиджа, за два года до той самой судьбоносной ночи, когда Пророк отправился в Медину, скорбь Али была такой же глубокой, как у Мухаммеда. Эта женщина воспитывала его как сына, которых отродясь у нее не было, а затем стала ему тещей. Насколько Али был предан Мухаммеду, настолько же он был предан Хадидже. Именно он понимал, что количество жен Мухаммеда после Хадиджи не играло особой роли, никакая из них даже в подметки ей не годились, а уж тем более те из жен, которые всеми силами пытались доказать свое превосходство.
Задолго до случая с ожерельем, до того, как эти бусинки упали на песок и вызвали скандал, Али оставался равнодушным к красоте и обаянию Аиши. В его глазах самая молодая жена Мухаммеда казалась недостойной называть себя преемницей Хадиджи. Эта антипатия была взаимной. Для Аиши преданность Али памяти Хадиджи было постоянным напоминанием о сопернице, которую она никогда не сможет покорить, а эти два сына Али были постоянным напоминанием Аише о собственной неспособности родить наследника. Она, Аиша, должна была стать любимицей Мухаммеда, она, а не эти два обожаемых внука, в которых Пророк души не чаял, и которые, казалось, дарили ему большую радость, чем та радость, которую он находил в ней, и разумеется, не эта унылая, скромная Фатима, мать этих отроков, и не этот превосходный Али, их отец, к которым она не имела ни малейшего почтения и уважения, которыми она должна была повелевать.
Упрек Мухаммеда за то, что она критически высказалась о Хадидже, тронул ее, тяжело, ох как тяжело, и так как Аиша вообще не знала что такое прощение, не говоря о ее злопамятстве, этот удар стал неподвластен времени. Порой она ощущала всю тяжесть этого удара. И вот этот запрет хоть как-то высказаться о Хадидже в критическом тоне, вот это неспособность хоть как-то, но посоревноваться на самом высоком и тем самым на самом важном уровне, а именно в продолжении родословной, заставляли вымещать всю свою ненависть всего лишь на одной личности, которая казалась безопасной, на старшей дочери Хадиджи. Надо сказать, что Фатима не обладала столь крепким здоровьем, той жизненной энергией, которая была присуща Аише. Она была на пятнадцать лет старше Аиши, слыла хрупким, можно сказать, хилым созданием. Она не могла заставить своего отца улыбнуться с родительской привязанностью, как это делала Аиша, она не могла дразнить его, даже порой добиться того, чтобы отец ее выслушал, если это не касалось ее сыновей. Вот этот пробел удачливо прикрывала Аиша, затмив Фатиму. Аиша стала Мухаммеду больше дочерью, чем женой. Аиша не спала, а видела себя соперницей Фатимы в достижении привязанности Мухаммеда. И в этом соперничестве у Фатимы не было шансов. В Медине доподлинно было известно, что если вы хотите найти подход к Мухаммеду, то лучшим временем считалось то время, когда он до этого был вместе с Аишей, хорошее настроение Пророка этим гарантировалось. Молодая жена имела влияние, тем или иным способом она пользовалась этим влиянием, совершая мелкие пакости, оскорбляя окружающих, и этому всему Фатима была беспомощна что-либо противопоставить. Дело доходило до того, что другие жены умоляли Фатиму пойти к отцу и выразить свое несогласие с тем, что творит фаворитка Аиша. Она знала, что выбора нет, кроме как выполнить просьбу, но сделав это, она также прекрасно понимала, что тем самым унижает себя. И в самом деле, когда она начала говорить об этом, Мухаммед быстро прервал ее: «Доченька, ты ли не любишь человека, которого любит твой отец?». На что Фатима кротко отвечала: «Люблю, отец». Конечно, вопрос Мухаммеда нес риторический характер, и хотя в этом вопросе был характер любящего отца, в нем слышались и нотки нетерпимости, желание положить конец постоянной грызне среди тех, кто рядом с ним, желание получить покой, чтобы решать важнейшие вопросы государства. Но в этом высказывании ощущалось также его желание отметить, что его любовь к Аише превосходит любовь ко всем остальным.
Именно это и понял Али, когда он выслушал свою плачущую от стыда жену, ведь этим Пророк нанес оскорбление не только Фатиме, но и ему, и что хуже всего, памяти Хадиджи. Он немедленно отправился к Мухаммеду, и попросил его ответить, зачем он пренебрегает кровным родством. «Разве этого не достаточно, что Аиша нас оскорбляет? — сказал он. – Зачем вы говорите Фатиме, что Аиша ваша самая большая любовь?» Мухаммед мог пренебречь Фатимой, но перед ним стоял Али, а его он не мог игнорировать. Теперь надо было загладить свою вину.
И для этого он выбрал подходящий случай. Длинная рука Византийской империи достигла далекой точки, а именно города Наджрана, расположенного на полпути основного торгового маршрута караванов между Меккой и Йеменом. Наджран являлся самым крупным центром христианства на Аравийском полуострове. Кораническое послание напоминало арабским христианам, что именно последние, как это не раз случалось с еврейскими племенами Аравии, бежали на юг из Палестины после поражения в столкновениях с римлянами столетия назад, и что по языку и культуре ныне они не отличались от соседних арабов. Вообще, Ислам был основан на религии Ибрагима. Широко распространилось поверье, что Кааба была построена Адамом, а затем восстановлена Ибрагимом, и что арабы являются потомками сына Ибрагима Исмаила. Ислам не столько рассматривался в плоскости отвержения существующих верований, а сколько в качестве возвышения этих верований в новую арабскую идентичность.
Но Наджран был разделен. Те, кто выступал за Ислам, утверждали, что Мухаммед является Святым духом или Утешителем, явление которых Иисус предсказал в Евангелии. Противники заявляли, что Утешитель, как это видно из Евангелии, имел сыновей, а у Мухаммеда их не было, а, значит, он не может быть Утешителем. Поэтому они решили направить в Медину делегацию, чтобы разрешить этот вопрос непосредственно при встрече с Мухаммедом в форме испытанных временем дебатов. Но Мухаммед предвосхитил необходимость дебатов. На этот раз он вышел к делегации не в обычном окружении советников, а со своей кровной родней. С ним были Али и Фатима, их сыновья, Хасан и Хусейн.
Он не сказал ни слова. Взамен, медленно и осознанно, у всех на виду, он взял за подол своей туники и потянул его высоко и широко так, чтобы она покрывала головы его небольшой семьи. Их защищает эта туника, произнес он. Они завернуты в него. Они были для него самыми близкими, самыми дорогими, Ахл-уль-Бейт, людьми из Дома Мухаммеда, — или как шиа впоследствии назовет их – Людьми Туники. То было блестяще рассчитанным жестом. Предание арабских христан гласило, что Адам получил видение бриллиантового света в окружении четырех светов, и Бог ему сказал, что они его пророческие потомки.
Мухаммед слышал об этом предании и знал, что когда арабы-христиане увидят его с развернутой туникой над четырьмя членами семьи, они тотчас же убедятся в том, что перед ними еще один Адам, о приходе которого пророчествовал Иисус. Действительно, они мгновенно приняли Ислам.
Но этот жест Мухаммеда многое говорил и Али с Фатимой. То были узы любви, узы крови, говорил он, и между двумя кровь выступает первой. И нет места бездетной Аише под этой туникой.
Следовало ожидать, что Мухаммед пошел к Али за советом, как быть в этом деле с ожерельем, а с точки зрения Аиши не было худшего советника, чем Али. В действительности, по меньшей мере с ее слов, а это единственно оставшийся источник, совет Али едва ли мог бы быть тупым. Удивительно тупым, в действительности, так как Али был известен своим красноречием. Сборник его речей и призывов, известный под названием Нахджуль-Балага, или Путь красноречия, будут учить на протяжении веков, как образец языкового и духовного совершенства. Известный глубиной и проницательностью своих взглядов, он представлял собой идеальное сочетание воина и ученого, смелости и рыцарства. Но по меньшей мере согласно Аише не было и намека на рыцарство, не говоря уже о красноречии, в совете, который Али дал Пророку. Может быть, он дал более просторный довод, а Аиша передала только его суть. Может быть, он потерял терпение мелодраматического аспекта всего бизнеса, может быть, он просто не выносил более Аишу. Все, что мы знаем – это то, что совет, который он дал Мухаммеду может быть рассмотрена некоторыми как очень уж откровенным, он представляется отрывисто грубым.
«Подобно ей есть много женщин, — сказал он. Бог избавил тебя от ограничений. Ее легко заменить». То есть, свет клином на ней не сошелся. Разведись, вот и конец всему делу.
Эти слова стали первым открытым выражением трещины в строящемся фундаменте Ислама, занозистой раной, едва заметной на первый взгляд, чтобы превратиться в главный раскол. Обыденная презрительность слов Али, едва скрытое презрение, не просто ужалило, а резануло до глубины костей. Но именно обыденно, небрежно брошенная фраза и является той, что делает ее по-человечески убедительной. Вот эта случайно брошенная фраза, это презрение, это явное желание верить в неверность Аиши – все это она запомнит на протяжении всей своей жизни. Не осталось источников о том, что еще сказал Али, давая совет Мухаммеду, хотя уже сказанным он высказал очень многое.
Не только небрежность ответа было до странности нехарактерным для Али, но таким же нехарактерным для него является тот факт, что упускалась из виду дилемма Мухаммеда. Развод с Аишей ничего не решало, ибо слухи о неверности все еще в этом случае продолжились бы, подтачивая репутацию Мухаммеда. Разрешение этой ситуации могло произойти только волей более высокой власти, что в точности и произошло.
Три недели Мухаммед был в нерешительности. Затем он направился в дом Абу Бекра, чтобы допросить саму Аишу. Там она вновь поклялась в своей невиновности, и он вошел в пророческий транс. Как она скажет: «Он был обернут в свою одежду, а под головой его была кожаная подушка».
Затем он проснулся, уселся, и капли воды стекали с него как дождь в зимний день, и он начал вытирать пот со своих бровей, приговаривая: «Добрые вести, Аиша! Бог послал слово о твоей невиновности».
То было совершенно своевременным божественным откровением. В тот же день Мухаммед объявил об этом публично, словами, которые являются частью суры 24 Корана: «Воистину, возведшие клевету [на супругу Пророка ‘Аишу] являются небольшой группой из числа вас [мусульман, и тех, кто был на границе между верой и неверием либо демонстрировал веру, скрывая от чужих глаз свое неверие]. Не думайте, что это [сплетни в совершении ‘Аишей прелюбодеяния] явилось злом для вас [ведь она супруга уважаемого и почитаемого, наставляющего вас на верный путь — пророка Мухаммада]. Нет же, в произошедшем добро и благо для вас [дабы выявились недобропорядочные в вашей среде, пустившие подобный слух и распространившие его. Вам, оказавшимся в эпицентре смуты и не замаравшим себя лживыми слухами, в любом случае за терпение и сдержанность воздастся многократным благом]. Каждый из них [участников оскорбления чести женщины] получит заслуженное им за совершенный грех [пропорционально степени его участия]. Того, кто явился зачинщиком этого (взяв на себя основную часть греха), ждет великое наказание».
Состоялось славное освобождение Аиши от ответственности, сильным, ибо требовал не одного, а сразу четырех людей, выступавших против нее. Если незаконному половому акту не было четырех свидетелей, говорилось, обвиняемый или обвиняемая были безвинны, а ложные обвинители должны были быть наказаны.
Для неправедной жизни нет лучшего исхода, но пройдут века и эти слова жестоко будут обращены священнослужителями прямо противоположно тому, что намеревался сделать Мухаммед: не реабилитировать женщину, но обвинять ее. Слова из этого откровения будут применяться не только при изменах, но и в случаях изнасилования. Если женщина не будет иметь четырех свидетелей при своем изнасиловании, что фактически невозможно, она будет считаться виновной в клевете и измене, и будет наказана. Освобождению от ответственности Аиши суждено было стать основой для молчаливого унижения и даже экзекуции бесчисленных женщин после нее.
Понятное дело, что она об этом и не думала. То, что она понимала, что все обвинения против нее отныне считались ложными, не менее чем со стороны божественной власти. Ее обвинители публично наказывались в виде порки, а поэты которые сочиняли оскорбительные стишки против нее, теперь составляли оды, восхваливая ее добродетель. Она вернулась к себе домой, в комнатенку во дворе мечети, и возобновила свою роль любимой жены Мухаммеда с дополненным статусом. Она стала теперь единственной женой Пророка, в присутствии которой Мухаммед получил откровение.
Тем не менее, она заплатила цену. Дни ее свободы, которыми так она довольствовалась, когда принимала участие в выездных кампаниях Мухаммеда подошли к концу. Исключением стало только паломничество в Мекку. Она скучала по этим приключениям, по тем военным действиям. Бесстрашная, безрассудная, из нее мог бы получиться прекрасный воин, но пройдет только двадцать пять лет, когда она вновь будет зреть сражение.
Она заплатила еще одну цену этому своему поступку, хотя в тот момент она этого в полной степени не понимала. Панорама ее въезда в Медину на верблюде Сафвана сохранилась в коллективной памяти оазиса, и это было той самой каплей в чаше Мухаммеда. Позже еще одно Кораническое откровение гласило, что отныне жены должны быть защищены от любопытных взглядов мужчин, кроме родственников, тонкой муслиновой завесой. И так как завесы могли использоваться внутри помещений, то снаружи женщины должны были надевать чадру.
Откровение о завесе применялось лишь к женам Пророка. Само по себе это давало чадре довольно высокий статус. Пройдут несколько десятилетий и чадру наденут женщины новой исламской аристократии, а исламские фундаменталисты это применят в отношении всех женщин. Несомненно, это возмутило бы Аишу. Можно вообразить только, как она удивила бы мусульманских консерваторов, срывая с себя чадру в негодовании. Она приняла чадру в качестве знака отличия, а традицию надевать на всех женщин чадру — как попытку заставить ее отойти на задний план? Девушка так привыкла быть у всех на виду, что вряд ли смогла бы смириться со своей невидимостью. Между тем, если бы Мухаммед усомнился бы в ней, было бы легче простить его, а не Али. Даже если бы Мухаммед умер бы семь лет позже, события повернулись ровно таким образом, какими они выстраивались в голове Аиши, и войско, во главе которого стояла Аиша, уже собирался в поход против Али. Совет данный Али Пророку будет терзать ее всю жизнь. В действительности, этот совет терзает всех и сегодня. Сунниты зовут ее аль-мубра’а, освобожденной, но есть шииты, которые по сей день ее зовут другим именем, именем, которая так рифмуется с ее настоящим именем – фаиша, шлюхой.
Глава 4
Итак, семена раздора были посеяны. Жены, тести и свекры, двоюродные братья и сестры, дочери, служанки, ближайшие соратники – все могли втянуться в этот раздор, ибо семена эти начинали приживаться. Но пока Мухаммед лежал в комнатушке любимой жены, жены имели возможность надзирать за всем происходящим. Именно они защищали покои больного, оценивали насколько ему позволяет здоровье принимать посетителей или просто лицезреть самых близких соратников. Жены устанавливали правила, где ему лежать. Но этот спор он пресек, настояв на покоях Аиши. Жены решали, какие можно давать ему лекарства, а какие нет.
Жизнь медленно покидала Пророка. Споры возникали относительно того, кто может навещать его, а кому это не дозволено. Несколько раз он собирался было с силами, чтобы ясно выразиться о том, кого он хотел бы видеть рядом с собой. Но даже в таких случаях между женами возникали жаркие споры, а он беспомощно глядел на них, не в силах предотвратить эти споры. Человек умирал и видел, как сбываются его наихудшие опасения.
Настал тот час, когда он позвал к себе Али. Али в тот период очень много времени проводил в мечети за книгами и молитвами. «А почему бы тебе не увидеться с Абу Бекром?» — спросила его Аиша. Его другая жена, Хафза, наоборот предлагала ему увидеться с ее отцом Омаром. Ошеломленный их настойчивостью, Мухаммед соглашался с ними. Звали Абу Бекра и Омара, а Али молчаливо обходили.
Подобное поведение со смертельно больным человеком может со стороны показаться вам недостойным, даже где-то жестоким, но кто мог обвинить этих молодух в столь неприглядной настойчивости в продвижении собственной повестки дня, реализации сокровенных желаний своих отцов и отвержению других возможных преемников, коим являлся Али? Они, жены Мухаммеда, знали и понимали, что их ждет непростое будущее.
Им суждено было стать вдовами. И не просто вдовами, а вдовами на всю оставшуюся жизнь. Этим женам предопределялась вдовья жизнь, столь незавидная доля. Вот что говорит об этом 33-ья сура Корана: «Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены – их матери… Вам не подобает обижать Посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом». Если жены Пророка были и вправду матерями правоверных, то жениться на них после смерти Пророка было равносильно инцесту.
Запрет на повторный брак шел вразрез с традициями Аравии. В Аравии 7-го века вдовы быстро выходили замуж, зачастую их брали родичи умершего, таким образом сохранялись и защищались семейные устои. Запретить повторный брак было шокирующим исключением в мощном отстаивании Мухаммедом заботы о вдовах, сиротах и нуждающихся. Но в этом исключении был свой смысл, ибо сами жены Пророка являлись исключениями. Запрет на повторный брак подчеркивал идею исламской общины как одной большой семьи. И если этот принцип достаточно сносно срабатывал для уже старых жен, то он в лучшем случае звучал иронично, даже жестоко, в отношении молодых жен. Аиша мечтала стать матерью, но под влиянием этого откровения ей будет отказано в возможности забеременеть и самостоятельно рожать детей.
Понятно, что недостатка в женихах для любой жены Мухаммеда не было. Мужчины бы соперничали за право жениться на вдове Посланника Бога и получить политическое преимущество под влиянием таким образом полученного родства. Наверное, он именно это и пытался предотвратить. А ведь в головах у многих уже витала эта шальная мысль. Амбициозный двоюродный брат Аиши Тальха однажды уже заявил вслух, что хотел бы жениться на Аише после смерти Мухаммеда. Это его желание вскоре привело к тому, что он очень быстро женился на одной из ее сестер. А откровение предотвращало любые подобные амбиции, и это слово было окончательным. Мухаммед оставил после себя девять вдов, и ни одна из них повторно не вышла замуж. Но ни одна из них не тревожилась о своем будущем так рьяно, как Аиша. Эта двадцатиодналетняя дева собиралась стать пожизненной вдовой человека, не оставившего после себя завещания. Должна ли она была вернуться в свой отцовский дом и жить там, преждевременно выйдя на пенсию? Сама идея пенсии в столь молодом возрасте могла быть сложной даже для наиболее уединенных женщин, а для Аиши – это было бы тем более ужасающей. Привыкшая быть в центре внимания она и не собиралась переходить на второстепенные роли. Назначение Али преемником Мухаммеда и являло собой опасность подобного исхода для Аиши. От такого преемства она, как и ее отец, не ожидала ничего хорошего. А ведь Абу Бекр было ровно таким же образом оскорблен, как и ее дочь, ролью Али в деле об ожерелье. Прямолинейный совет Али трогал честь Абу Бекра и его семьи, честь всех переселенцев. Так считал Омар. Он и Абу Бекр были самыми близкими советниками Мухаммеда, близкими друзьями, оба были тестями Пророка, хотя и были моложе него – Абу Бекр на два года, а Омар на двенадцать лет. Но там, где сутулый седовласый Абу Бекр проявлял вдохновенную любовь и почитание, Омар внушал страх и благоговение.
Казалось, что своими размерами Омар заполнял все пространство комнаты Аиши. Он был так высок, что Аиша однажды сравнила его, сказав так: «он возвышался над толпой, как если бы был верхом», «Омар всегда был с хлыстом в руке, и готов был воспользоваться им, независимо от того, кто был перед ним, человек или животное. Его голос был гласом повеления; отточенным до лаконичности на ратном поле, он просто принуждал к повиновению. Когда он заходил в любую комнату, как вспоминала Аиша, все прекращали смеяться. Голоса затихали в молчании, когда гласившие замечали его. Когда он собирался говорить, лица невольно обращались к нему. Вокруг Омара не было места для мелких разговоров, легкомыслия. Его присутствие в комнате больного Пророка подтверждало серьезность положения.
Каждый человек, находящийся в этой комнате, хотели одного – обезопасить Ислам, но вместе с тем каждый хотел также обезопасить свое положение. Как это всегда бывает в политических вопросах, все были убеждены, что интересы общества и их собственные интересы совпадают. И все это сошлось в том самом случае, который называют случаем о пере и бумаге.
На девятый день болезни Мухаммед показался окружавшим его людям немного оправившимся, так обычно бывает в день перед смертью. Он сел и взор его был светел, попил немного воды и сделал то, что многие, вероятно, посчитали последней попыткой Пророка донести до всех свои пожелания. Но даже эта попытка не стала однозначной по мнению очевидцев.
«Принесите мне перо и бумагу, ибо я хочу записать нечто для вас, чтобы вы не впали в грех», – произнес он. Казалось, обыкновенная просьба, не лишенная разумности при тех обстоятельствах. Но среди находившихся в тот момент в комнате Аиши, а там были жены Мухаммеда, Омар и Абу Бекр, эта просьба Мухаммеда вдруг вызвала панику. Никто не знал, что собирался написать Мухаммед, или, как гласит хадис, что хотел он продиктовать, так как основоположник Ислама не умел ни читать, ни писать — качество невероятное для человека, проработавшего столько лет купцом. Человек, занимающийся торговлей, думается, должен вести хоть какие-то записи о том, что куплено, что продано, то бишь, должен владеть элементарными знаниями чтения и письма. Но предположительная неграмотность Мухаммеда служила гарантией того, что Коран был дан в откровении, он не был придуман, и это было поистине Божьим словом, а не результатом человеческого вмешательства.
Хотел ли умирающий Пророк что-то написать или продиктовать, какое это имеет значение, самым главным было то, что он собирался отразить на бумаге. Может он хотел изложить общие принципы пребывания общины? Может он хотел дать советы общине, которую он оставлял после себя? Или передать самое насущное на тот момент и самое страшное на тот момент – свое завещание? Единственным способом разрешения этой ситуации — это было принести бумагу и перо, но этого не случилось. Едва он произнес свою просьбу, как все вокруг представили, какие последствия могут быть, исполни они эту просьбу. А что если он напишет завещание? А что если завещание будет не в их пользу? А что если он назовет Али, а не Абу Бекра, Омара или кого-нибудь из своих соратников своим преемником? А почему это он решил написать завещание, почему он его не выскажет, почему он требует записи? Почему он настаивает на пере и бумаге? Значит ли это то, что даже на смертном одре он не доверяет никому из окружавших исполнить это задание и хочет отразить свои слова именно на бумаге, однозначно, чтобы всем было понятно? Эти мысли витали в головах, не произносились вслух, и под их натиском все вокруг вдруг стали выражать озабоченность , что незачем Пророку надрывать свое ослабленное здоровье. Они начали беспокоиться о том, что выполнение этой просьбы усугубит состояние Мухаммеда. Они начали требовать покоя больному. Шум в комнате Мухаммеда нарастал.
Сцена полная абсурда! Казалось, что все вокруг были преданы Мухаммеду, который был готов донести до всех свои пожелания, а, может быть, и назначить наследника, раз и навсегда поставив жирную точку под этим вопросом. Абсурдность ситуации заключалась в том, что все вокруг хотели знать имя наследника и в то же время никто не хотел знать его имя. А если Пророк и назвал бы Али, то никто в этой комнате не хотел бы, чтобы имя Али фигурировало в письменной форме.
Одна сцена быстро сменилась другой. Теперь все вокруг вдруг стали беспокоиться. Они, столпившись вокруг больного, стремились защитить его от домогания других, хотели облегчить смерть Пророку. Участились голоса за и против, вокруг него начались споры относительно того, следует или не следует приносить ему перо и бумагу. Весь этот шум и возня опять подействовали на Мухаммеда. Каждая злая нотка, каждый пронзительный звук словно просверливал его мозг, пока он вдруг не сказал: «Уходите, не надо ссориться в моем присутствии».
Он был так слаб, что эти слова были просто прошептаны им. Только Омар смог услышать эти слова, и этого было достаточно. Он свои зычным командным голосом сказал: «Боль свалила Посланника Аллаха. У нас есть Коран, Книга Бога, и это достаточно для нас».
Нет, Корана было недостаточно. Конечно, слова Омара можно истолковать как проявление совершенной веры, но это было не так. Коран был дополнен практической жизнью Мухаммеда, его образцом во всем, начиная от самых великих событий и кончая самыми мелкими деталями повседневной жизни, о которых ведали самые близкие к нему люди. Сунна, так зовут этот источник, традиционное арабское предание, переданное предками. Именно из этого слова сунниты взяли свое имя, хотя шииты следуют примерно этим же хадисам.
Между тем, довод Омара подействовал на присутствующих. Его слова возымели ожидаемое действие, и улегшиеся страсти в комнате больного сменились воцарением стыдливого молчания. Если Мухаммед на самом деле хотел назвать имя наследника, то было уже поздно. У него больше не оставалось сил назвать присутствующим имя своего преемника, или просто поведать всем свои пожелания. Может быть, он не был столь здрав, каким казался, может быть, все в комнате в глубине своих душ преследовали свои интересы или интересы общины? Почти все, конечно, боялись, что Мухаммед изложит в письменной форме то, что он указал три месяца тому назад, в конце своего последнего или как это назовут позднее Прощального паломничества в Мекку. Чувствовал ли он в тот момент, что ему не будет суждено увидеть более Мекку? Осознавал ли он тогда, что ему уже оставалось-то жить всего ничего? Может быть, это и послужило причиной изложенного ниже события?
Шииты поддерживают ту точку зрения, что Мухаммед понимал, что приближается время его смерти и предварил свое заявление следующими словами: «Подходит время, когда Бог меня призовет. И я отвечу на этот призыв. Я оставлю вас с двумя драгоценнейшими дарами, и вы будете привержены им, и никогда не заблудитесь. Это Коран, Книга Бога, и моя семья, Люди Дома Моего, Ахл-уль-Бейт. Они неотделимы до тех пор, пока не прибудут ко мне к брегам Райского озера».
Сунниты спорят с этим. Эти слова, они говорят, были добавлены позднее, и кроме того, они не доказывают того, что Мухаммед знал о своей скорой смерти. Как любой шестидесятитрехлетний человек, он своим физическим здоровьем ощущал свой возраст, и, ясное дело, понимал, что жизнь не вечна. Но это не значит, что он ощущал свою близкую смерть. Он просто готовил мусульман к этому неизбежному событию.
О времени и месте заявления Мухаммеда тоже идут споры. Это случилось 10 марта 632 года, за три месяца до настигшей Мухаммеда смертельной болезни. Караван, возвращавшийся из паломничества, остановился под покровом ночи у родника Гадир-Хумм (Пруд Хумм). То было зрелищем достойным лучших фильмов Голливуда — небольшой, неглубокий пруд с влажным песком вокруг, питающим корни нескольких чахлых пальм. В бесплодных горах западной Аравии даже небольшое проявление весны было большим чудом, а это место отличалось к тому же и тем, что там пересекались караванные маршруты. Именно здесь паломники разделялись, некоторые отправлялись в Медину, другие на восток и север. Прошлой ночью они были все вместе, и их численность увеличилось прибытием Али со своим отрядом, возвращающихся из Йемена. Поход был успешным. Мятеж против Мухаммеда в Йемене был подавлен, налоги и дань уплачены. Праздничный дух витал в воздухе. Мухаммед испытывал необыкновенно прекрасное время, когда его фаворит, тридцатипятилетний воин возвращался с похода с выполненной миссией. В тот вечер, когда они напоили своих верблюдов и лошадей, после того как они приготовили еду и поели, они выбрали себе место для сна под пальмами. Мухаммед повелел соорудить помост из пальмовых ветвей с верблюжьими седлами наверху, что-то вроде временной трибуны, и в конце общей молитвы он взобрался на этот помост. С присущей ему жестикуляцией он позвал Али, чтобы тот поднялся на помост и встал рядом с ним. Он протянул руку Али и помог ему подняться. Затем он поднял ввысь руку Али в своей руке, сжал его предплечие и перед тысячами людей он восславил племянника с особым благословением: «Для всякого, кому я господин, Али тоже является господином», — сказал он. «Бог будет другом тех, кто будет другом ему, а врагом тех, кто будет его врагом».
Казалось, все свершилось. И даже Омар подошел к Али и поздравил его. «Отныне утром и вечером вы — учитель всех верующих мужчин и женщин», — сказал он.
Конечно, это означало, что Омар принял заявление Мухаммеда, а, следовательно, он принимал тот факт, что Али отныне является наследником Пророка, и трудно себе представить, что Омар был одинок в своем мнении. Но и на этот раз подвела та самая роковая двусмысленность. Если Мухаммед этим хотел назначить Али своим преемником, то почему бы ему просто не заявить об этом? Зачем говорить какими-то символами, а не прямо указать? В действительности, а почему он не стал заявлять об этом во время хаджа, когда в Мекке собралось куда больше мусульман? А может это заявление служило лишь спонтанным выражением любви и привязанности к своему ближайшему родственнику, или в этом заявлении скрывалось нечто большее?
Через три грядущих месяца, как и через четырнадцать столетий, эти слова Пророка подвергнутся не только различным толкованиям, но даже и сомнению: а говорил ли он это вообще? Мы знаем, что он сказал, но по-различному понимаем, что он этим хотел сказать. Арабский язык очень тонкий язык. Слово – учитель (мавла) можно перевести как руководитель, господин, друг, доверенный человек. И все зависит от контекста. А контекст бесконечно спорен. Омар мог просто признать то, что каждый мусульманин, шиит он или суннит, подтверждает, что Али особый друг всех мусульман.
Кроме того, вторая часть высказывания Мухаммеда в Гадир Хумме было стандартной формулой преданности и дружбы на Ближнем Востоке в то время – «Бог будет другом того, кто будет другом ему, а врагом тех, кто будет его врагом», формула, которая спустя века превратилась в современном политическом жаргоне в выражение «Враг моего врага мой друг». Но в своей исходной форме эта фраза не означала права наследования. Она была принята всеми как декларация доверия Али, веры в него. Но означала ли эта декларация то, что Али становится преемником Пророка? Чем это больше кажется ясным, тем меньше воспринимается человеком. Что бы написал Мухаммед, принеси ему перо и бумагу? Он назначил бы Али своим преемником, халифой, говорят шиа. Сунниты же отмечают: Кто знает, что он этим хотел сказать? Да и какое имеет теперь значение говорить о плодах буйного воображения правоверных шиитов. Если простое заявление толкуют различными способами, то что говорить о ненаписанном заявлении.
У подобных споров не бывает разрешения. Все хотели и хотят по сей день получить ответ, но писатели и историки той эпохи передавали действия и высказывания людей, а не их мысли и намерения. И суть спора зависела не от того, что произошло, а от того, что имелось ввиду.
Как всегда, вопрос заключался в том, о чем думал Мухаммед, именно этот же вопрос будет адресован впоследствии Али, а еще позже и к сыну Али Хусейну. Каковы были их намерения? Что они знали, а чего не знали? Неразрешимые вопросы — причина столь длительного раскола в Исламе. Несмотря на все страстные претензии, неоспоримые религиозные реалии, пламенные речи и жуткие бойни, стойкая ирония заключается в том, что «абсолютную истину» никогда невозможно будет достичь. Ее нет даже в науке, что говорить об истории. Все мы точно знаем, что в тисках лихорадки, ослепленный мучительными головными болями, когда каждый малейший шум словно буравчик вонзался в голову, Мухаммед был не в состоянии более высказать свою волю. Пера и бумаги не было, а к следующему утру он был настолько слаб, что едва мог двигаться.
Он понимал, что конец близок, поэтому он дал понять всем о последней просьбе. И ему предоставили это право. Он попросил омыть его тело семи ведрами воды из семи колодцев. Хотя он не пояснил причину своей просьбы, все его жены поняли эту просьбу как часть ритуала мытья мертвого тела. Они помыли его. Будучи в состоянии чистоты он попросил привести его на утреннюю молитву в мечети.
Их было двое, Али и его дядя Аббас. Они поддерживали его с боков, а руки Пророка свисали с их шей. От комнаты Аиши до мечети было всего лишь несколько десятков метров, но для него это расстояние показалось бесконечным, тень мечети избавило его от слепящего солнца. Когда они дошли до мечети, Мухаммед попросил их, чтобы они его усадили рядом с амвоном. Он понаблюдал, как его старый друг Абу Бакр проводит молитву.
Те, кто принимал участие в молитве, помнили, что каждый раз, когда голос его друга раздавался в стенах мечети, на лице Пророка появлялась слабая улыбка. Они утверждали, что лицо Пророка словно излучалось, хотя и не были уверены, было ли это сиянием веры, или оскалом лихорадки и неминуемой смерти. Возможно, то было излучением их веры, их благодарности видеть его рядом с собой. Они видели, как он сел, как он слушал слова молитвы, впервые донесенные ему архангелом Джабраилом. Они убедили себя, что они не в последний раз видят Пророка. Но когда молитва завершилась, Али и Аббас привели Мухаммеда обратно в комнату Аиши, ему оставалось прожить лишь считанные часы. Некоторые из окружавших были более прозорливы остальных: «Клянусь Аллахом, сегодня довелось мне увидеть в лике Пророка саму смерть», — сказал дядя Али Аббас, когда они усадив больного на свое место, вышли из комнаты Аиши. Настал последний шанс прояснить вопрос преемства. – Давай вернемся и спросим, предложил Аббас. Если власть перейдет к нам, мы будем знать об этом, если другим, то попросим его, чтобы он наказал этим другим обращаться с нами достойно». Но Али не стал прислушиваться к этому предложению: «Клянусь Аллахом, это не по мне. Если власть у нас отнимут, после него никто нам ее не даст». Даже Али, казалось, не был готов к выяснению этого вопроса. К тому времени, по любому, было уже слишком поздно. Когда они разговаривали за пределами комнаты, Пророк впал в беспамятство и не приходил больше в себя. Он умер в полдень, в понедельник, 8 июня 632 года.
Он умер, сказала Аиша. Голова Пророка лежала на ее груди. Или как деликатно замечают арабы между легкими и губами. Так гласит суннитская версия. А шииты говорят, что голова Мухаммеда лежала не на груди Аиши, а на груди Али. И именно сильные руки Али держали Мухаммеда в момент смерти. Шииты утверждают, что именно Али услышал как с последним дыханием Пророк еле произнес и повторил эту фразу трижды: «О, Аллах, сжалься над теми, кто сменит меня».
Очень важно, кто держал умирающего Пророка. Очень важно, чьи уши слышали последнее дыхание Пророка, чья кожа касалась кожи покидающего этот мир Мухаммеда, чьи руки поддерживали его, когда он переступал черту между жизнью и смертью. Словно с его последним дыханием, душа, выскользнувшая из его бренного тела, войдет в миг смерти внутрь того, кто держал его. Словно от того, кто держал (или от той, кто держала) умирающего Пророка, зависел не только прошлое, но и будущее Ислама.
Глава 5
Разве нужны были слова, чтобы передать вести о смерти? Слез и рыданий было предостаточно. Аиша, а вслед за ней и другие жены страшно и пронизывающе завыли в горе, и этот вой, пронесшийся по всему миру, был подобен вою раненного зверя, скрывшегося в зарослях, дабы встретить свою смерть. Этот вой со скоростью звука возвещал всем жителям оазиса о смерти Пророка, передавал им высшую степень страданий от возникшей боли и настигшего горя. Мужчины и женщины, стар и млад, покорно вступали в этот общий хор плача и стенаний. Они били себя по лицу, по щекам, сжав руки в кулаки били себя в грудь, и глухие звуки отзывались эхом, словно торс человека был дуплом. Они царапали до крови лица свои, и кровь, текшая прожилками со лба, попадала прямо в глаза, и от этого слезы людей приобретали красноватый оттенок. Они брали пригоршнями пыль с земли и, унижая себя, бросали пыль и грязь земли в отчаянии себе на головы. В момент скорби арабы совершают эти самые ритуальные действия. Далеко не надо ходить — в день Ашуры можно увидеть эти действия по сей день, когда шииты переживают траур по трагической смерти Хусейна, сына Али. Эти действия внешне выражали состояние покинутости, траура, причем траур был не только по умершему, но и по тем, кого покинул усопший, кто остался без него на земле бренной.
Мы были в ту дождливую ночь, вспоминал один из переселенцев, словно агнцы, ступавшие по пути, но в полной растерянности, ибо не было более над нами пастуха. не было вокруг укрытия. Как он мог нас покинуть? Да мы же намедни видели его в мечети, мы видели, как лицо его просияло, когда он услышал молитвы на наших устах. Мысль о смерти была столь страшной, столь обескураживающей, что даже хладнокровный Омар, храбрейший из воинов, не смог уразуметь случившееся. Омар, который совсем недавно утверждал, что книга Бога достаточна, сейчас отказывался принять победу смерти.
Этого не может быть, настаивал Омар. Даже думать об этом богохульство. Мухаммед просто оставил нас на время. Будет воскрешение, как это случилось с последним великим пророком Иисусом. Посланник воскреснет и поведет свою паству к Дню страшного суда. И в панике, ослепленный сразившим его печалью, этот суровый Омар встал перед мечетью и поднял голос на испуганную толпу: «Клянусь Аллахом, он не умер, — закричал он, хотя слезы душили его, а борода становилась мокрой от слез. — Он ушел к Господу своему, как уходил до него пророк Моисей и был скрыт с глаз своего народа в течение сорока дней, а затем возвратился к ним, когда уже пошли слухи, что он умер. Клянусь Аллахом, Посланник вернется, как вернулся Моисей, и мы отрубим руки и ноги всем мужчинам, которые заверяют нас, что он умер».
Но если этим высказыванием он хотел успокоить толпу, то его слова возымели обратное действие. Мнение Омара, заключающееся в истерическом отрицании смерти пророка, породило больше паники. Невысокого роста, пожилой Абу Бекр смог оттянуть Омара. «Омар будь осторожен, — предупредил Абу Бекр, успокойся». Он взял за руку Омара и отвел его в сторону. А затем сам занял его место перед перепуганной толпой.
Его голос был поразительно силен в тот миг, вовсе не таким, какой можно было ожидать от столь хрупкого тела пожилого человека. Хотя сказанное им носил страшный оттенок обреченности, но в этих словах теплилась надежда для каждого из собравшихся: «Для тех, кто поклонялся Мухаммеду, Мухаммед мертв», — объявил Абу Бекр. – «Для тех, кто поклонялся Богу, Бог жив и бессмертен. Посланник умер, да здравствует Ислам!»
Воцарилось молчание, длившееся ровно столько, сколько смысл сказанных прокладывал путь до ума и сердца толпы. Колени Омара подогнулись, и он упал на землю, заливаясь мучительными слезами. Спокойный реализм старца Абу Бекра покорил этого страшного гиганта, заставил его, как младенца, зарыдать, и пока Абу Бекр продолжал свою речь, цитируя третью суру Корана, все стали плакать вместе с Омаром:
«Мухаммед является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?»
Смертность Пророка постепенно утверждалась в сердцах людей. И люди плакали, днем и даже ночью слышался такой вой, что даже вьючные животные беспокоились в своих загонах, даже шакалы и гиены завывали в унисон с людьми. Реальность брала бразды в свои руки.
Для некоторых это покажется очень быстрым, чем для других, но Али и вместе с ним три его родича начали подготовку к захоронению, запершись в комнате Мухаммеда. Это был длительный, медленный ритуал. Они омыли тело Мухаммеда, протерли его травами, обернули в саван. Но даже в этой скорби все размышляли о будущем. Заблудшие агнцы столкнулись с непростой задачей выбора пастыря. Не прошло даже часа от смерти Мухаммеда, как начали возникать островки недоверия между мединцами и бывшими жителями Мекки. Ибн Обада, вождь одного из двух основных племени Медины, решил созвать совет (шура), традиционное межплеменное собрание, где утверждались соглашения и разрешались споры. На современном языке поступок Ибн Обады можно было бы назвать вступлением в закулисные переговоры, и в этих переговорах принимали участие только приглашенные. Позвали только местных, мединцев, то бишь, помощников (ансаров). Мекканцы, то бишь переселенцы (мухаджиры) не были приглашены на этот совет. Ансары верили Мухаммеду, ибо считали его своим родственником. Надо сказать, что бабушка Мухаммеда с отцовской стороны была родом из Медины. Мединцы принимали Пророка за своего. Другое дело, семьдесят два соратника Мухаммеда, которые прибыли вместе с ним в Медину вместе со своими семьями. Приняли их радушно, но не все и с не столь распростертыми объятиями. Поистине, все равны в Исламе. Все братья, все – одна семья. Но даже между братьями, или, скажем так, в особенности между братьями может возникнуть недовольство и процветать зло. Мухаджиры остались иноземными мекканцами в глазах мединцев. Их скорей терпели в Медине, чем принимали. Мединцы помнили, что перед ними представители племени Курейш из Мекки, извечного соперника Медины. И сейчас, когда Мухаммед как консолидирующая общество сила внезапно умер, настало время для самоутверждений.
Шуре требовалось время, решения там принимались на основе консенсуса. Консенсус, идеальный случай, но только в теории, на практике шура должна была длиться до тех пор, пока одна из противоборствующих сторон не станет противиться общему мнению участников, не подчинится большинству, или по крайней мере пока эту сторону не запугают. В таких вопросах спешить было нельзя. Каждый вождь, каждый старейшина, каждый представитель того или иного клана имел право на озвучивание мнения и пользовался им, не ограничивая себя во времени.
Если лишь немногим удавалось в этом обществе научиться чтению и письму, то этот недостаток компенсировался феноменальными ораторскими качествами выступающих, что являлось не столь удивительным фактором в обществе дописьменного периода. Богатая риторика ценилась высоко, красноречивость само по себе доставляло истинное наслаждение. Поэтика речи была столь же важной, как и ее содержание. А продолжительность речи былв прямой пропорциональности с высотой положения и важностью выступающего. А это уже работало против интересов мединцев. Такого рода долгие советы не могли быть сокрыты от окружающих глаз. Спустя несколько часов после начала совета, по городу расползлись слухи. Неприглашенные на этот совет мухаджиры решили провести свой совет и приглашать туда только своих.
Ранним вечером рокового понедельника Абу Бекр разбудил скорбящего Омара. На кону стоит вопрос преемства, а значит хватит держать траур, — сказал он Омару. — Мединцам нельзя давать в этом вопросе волю, они выступят против всего того, чего достиг Мухаммед. Новым лидером Ислама должен быть тот, кто объединит, а не расколет Мусульманскую общину.
Как и Абу Бекр, Омар смекнул, что лидером должен стать один из мухаджиров. Именно мухаджиры были первыми соратниками Пророка, прошедшими с ним самый долгий путь. Самыми влиятельными среди мухаджиров, кроме Али, были трое: сам Омар, Абу Бекр и Осман, приятный на внешность аристократ рода Омеййядов, самого богатого клана племени Корейшитов.
Еще каких-то два года назад большинство Омеййядов выступали против Мухаммеда. Осман принял Ислам на раннем этапе зарождения религии. Он переселился в Медину с Пророком, отдал большую часть своего богатства делу Ислама, и стойко поддерживал Пророка, даже если это означало войну со своими сородичами. В благодарность за это Мухаммед отдал свою вторую дочь, а когда та умерла, то и третью дочь в жены Осману. Таким образом Осман владел уникальным отличительным признаком – он был дважды зятем Пророка. При преобладании Омара и Абу Бекра его голос будет иметь значение. В последние дни Мухаммеда его не было в той комнате, где умирал Пророк. Он полностью пользовался прерогативой аристократа, проводил эти дни в своем загородном поместье в Медине, где воздух был свеж и прохладен. Но его присутствие сейчас становилось жизненно важным, и за ним сломя голову направили гонца. С приглашением или без приглашения мухаджиры тоже собирали шуру, и Осман должен был принять в нее участие.
Собравшиеся под стягом Омара и Абу Бекра они силой явились в шуру. По существу, эти непрошеные гости превосходили по численности участников этого собрания. Но отсутствовал один человек, прямо связанный с обсуждаемым вопросом, и его отсутствие лишало шуру легитимности.
Али был единственным из мухаджиров, кого бы мединцы сразу бы признали в качестве своего предводителя. Они видели в нем своего человека, нежели чем мекканца. Так как Мухаммед со стороны бабушки, матери отца, был мединцем, то и Али, самого близкого к Пророку мужчину-родственника, тоже можно было считать мединцем. Но именно непосредственная близость по родству к Мухаммеду и стало причиной отсутствия Али на этой шуре.
Конечно же, ему сообщили о шуре. Его дядя Аббас, тот самый, который просил его вернуться в комнату к умирающему Пророку, чтобы уточнить вопрос о преемственности, настаивал, чтобы Али поехал на шуру, а он вместо Али будет сидеть рядом с телом Пророка. Когда на карту поставлено столь много, очень важно было отстоять свои права на власть.
Но напрасны были слова Аббаса. Али, то ли от печали, то ли из-за отвращения не столько к самой идее шуры, а к поспешности, с которой она проводилась, покачал головой. Как он мог отойти от еще не захороненного тела Пророка? Как он мог оставить человека, который был ему отцом и наставником, и не предать его земле? Как бы ни были плачевны обстоятельства, об этом не могло быть и речи. Али был прежде всего человеком веры. Он остался с Пророком, полагая, что мединцы его поддержат.
Не впервой будет ему страдать от неоправданной веры в других.
Для суннитов шура – это совершенный образец мудрости консенсуса, общины, избранной недавно для разрешения споров и нахождения правильного решения. Сам Пророк доверил им выбрать своего преемника, и они поддержали Пророка. В действительности Мухаммед хотел этого с самого начала. Они цитировали в более позднем хадисе слова Мухаммеда: «Моя община никогда не ошибется». Исламская община была священной, а значит по своему определению свободной от ошибок. Но веками позже эти слова Пророка станут самореализующим доводом против шиитов: это значит, что любой, несогласный с суннитским большинством, ошибочен. Шииты, несогласные с суннитским большинством, уже по определению не могли стать истинной общиной Ислама.
Для шиитов, не община, а именно руководство общиной являлось священным. Сунниты упразднили божественно закрепленную власть, распределив ее между собой. Согласно мнению шиитов узурпация сферы божественного началась именно на этой первой исламской шуре. Воля Пророка была ясной – Али был единственным легитимным преемником Пророка. Назначение кого-либо другого халифом было предательством не только по отношению к воле Мухаммеда, но и в целом идеалов Ислама.
Понятно, что шура имела благие намерения. С одной стороны все тянулись к единству, с другой стороны именно его они никак не могли достигнуть. В тот момент, когда мекканские мухаджиры ворвались в зал, где мединские ансары проводили шуру, последние поняли, что все их попытки поставить во главу общины кого-либо из своих обречены. Чтобы найти компромисс, мединцы еще некоторое время старались предложить других кандидатов: «Давайте сделаем так: у вас будет один правитель, а у нас – другой». Но Абу Бакр и Омар настаивали на одном предводителе. И этим предводителем, утверждали они, должен быть мухаджир. Мекканцы первыми приняли Ислам. Мекканцы были из племени Мухаммеда Курейш, которое преобразовало Мекку в крупный торговый город и центр паломничества. Ислам близок к единству, говорили они, и если кто и сможет объединить Мекку и Медину, как единый народ, центр Исламской общины, то только представитель племени Курейш.
Шура растянулась, прошла ночь, наступил следующий день. Выступления следовали за выступлениями, порой длинные, замысловатые, страстные, убежденные. Все подчеркивали великую цель дать народу благоденствие, что, впрочем, всегда присутствует в подобных речах. Конечно же, все думали о народе, не дай Бог, подумать о себе. Общественный и шкурный интерес порой совпадают, даже тогда, нет, и в особенности тогда, когда этот самый интерес касается твоей шкуры.
Переселенцы стали навязывать свою волю ансарам. Становилось ясным, что преемником будет корейшит из Мекки. Все, как будто, согласились с этим, но кто? При прочих равных условиях, установленный принцип насб, высокого происхождения, мог взять вверх. Этот принцип утверждал, что признак родовитости шла по линии родословной, а в обществе, так покоряющимся родословной, что позднее, когда разразилась открытая гражданская война, воины гордились своими родословными, громко во всеуслышание объявляли их перед наступлением. Итак, родословные были немаловажным фактором. Если следовать принципу насб, то преемником должен был стать Али.
Но я же заметила выше, что насб взял бы вверх при прочих равных условиях. Несмотря на высокий личный авторитет Мухаммеда, его род, а значит и род Али, был слабым в племени Корейшитов. Род Мухаммеда звали хашимитами, а в Курейше главенствовали умейяды, которые столь долго и настойчиво противодействовали Мухаммеду, ведь их богатству, их верховенству в обществе угрожала исламский принцип равенства.
Хашимиты гордились, что Мухаммед вышел из их рода, то было сильным доводом. Но не сейчас, когда Мухаммеда уже не было, и славу лидерства приходилось распространять на другие роды из племени Корейшитов. Мухаммед всегда ставил целью расширять власть, не выделять один род над другими. Выбрать Али, еще одного представителя Хашимитов, означал собой риск превратить преемство власти в Исламе в форму наследственной монархии. А этому Мухаммед всегда противостоял. Лидерство не наследуется, подобно имуществу. Лидерство завоевывается не кровью, а умением. Об этом Мухаммед всегда пекся. Вот почему он так и официально не стал объявлять о наследнике. Он верил в свой народ, что он решит сам, он верил в святость решения всей общины.
То было принципом в пользу демократии, пусть и в ограниченной форме, но демократии. Пройдет пятьдесят лет и и этот принцип жестоко нарушит Омеййядский халиф, который учредит Суннистскую династию, передав свой трон сыну, что повлечет за собой катастрофические последствия для сына Али, Хусейна. То было доводом против всех грядущих династий, возникавших на протяжении веков, будь это халифаты, царства, султанаты, княжества, королевства или президенства. Но то было и вектором возврата власти тем, кто раньше владел ей, то есть к Омеййядам.
Будь-то в седьмом или в двадцать первом веке, на Востоке или на Западе, обыкновение править закрепляется по отношению к отдельным семьям и родам. Это является отношением, предпосылкой права властвовать, выполнять то, что в демократиях называется «традициями государственной службы», и этот принцип передается из поколения в поколение даже за отсутствием института наследственной монархии. Именно это отношение выделяло корейшитов как племя, а в них – омеййядов в качестве клана. С этой точки зрения идеальным кандидатом на шуре, который казался был рожден для власти, был умеййяд Осман. Но идеальным кандидатом он был бы для Мекки, а не для Медины. Еще при противостоянии между Меккой и Мединой, а это противостояние прекратилось два года тому назад, мекканские войска под предводительством омейядов сошлись в двух главных сражениях против Мухаммеда и Медины, не говоря о многочисленных мелких стычках. Память об этих сражениях все еще была свежа, зарубины еще не зажили, никто из мединских ансар не мог согласиться с тем, чтобы во главе стал омейяд, даже такой уважаемый среди них как Осман.
Вечером во вторник, казалось, что шура зашла в тупик. Многие из участников собрания просто очень устали. Уже свыше двадцати четырех часов они сидели, принимали участие в дискуссиях, предложениях, контрпредложениях, но точка согласия, казалась, была еще вдалеке. Тогда, произошел тот самый ловкий прием, который применяют шахматисты в матчах за мировую корону. Авторами этого хода стали Абу Бекр и Омар.
Готовились ли они к нему? Никто не знал, но он прошел так гладко, с такой неизбежностью, что даже последователи Али не смогли понять, что происходит.
Сначала Абу Бекр выдвинул кандидатуру Омара, хотя он прекрасно знал, что после знаменитого высказывания панически настроенного Омара, когда он начал отрицать смерть Мухаммеда, интерес к нему был подорван. Затем выступил Омар и предложил кандидатуру Османа, хотя и Омару было известно, что Осман – омейяд, и он уж точно не сможет стать во главе общины. Оба предложения были подвергнуты резкой критике оппозиции, и все ждали какой-то переломной точки.
Дискуссии уступали крикам, наружное спокойствие переходило в ожесточенные упреки сторон. Ибн Обада, мединский ансар, который в самом начале и созвал шуру, выступил и открыто обвинил переселенцев в том, что они желают захватить власть. Едва он хотел продолжить свою речь, как в ход пошли кулаки. В этой массовой стычке Ибн Обада был избит до бессознания.
Внезапая вспышка насилия, казалось, остудит пыл мединцев, Они были встревожены, когда видели, как Ибн Обаду выносили в крови, и боялись, что шура может перейти к всеобщей драке. Желание проводить дальнейшие дебаты постепенно убавлялось, и когда предложили очередную кандидатуру, все мединцы просто сдались. В этот момент и произошел тот самый ход, который шииты считали заранее подготовленным, а сунниты — как совершенный пример мудрости согласия. Внезапно встал Омар и предложил то, что назвал идеальным компромиссом.
Вот как об этом рассказывает он в присущем ему виде: «Препирательства становились все ожесточенней, тоны все повышались, когда я понял, что следует опасаться полного разлада, я сказал: «Дай свою руку, Абу Бекр».
Он сделал это, и я поклялся ему в верности. За мной поклялись ему верности переселенцы, а потом ансары».
Вот так и прошло назначение. Преемником Мухаммеда – халифой, халифом, если говорить по-русски, стал не Али. Им стал отец самой одиозной вдовы Мухаммеда, скандальной Аиши.
Захоронение странным образом замяли. Его провели в спешке, втайне, как-то прозаично, что кажется поразительным в свете всех этих паломничеств и святынь.
К тому времени когда Али и его родственники услышали вести о том, что Абу Бекра избрали халифом, тело Мухаммеда уже полтора дня лежало незахороненным. А так как на дворе стоял знойный июнь, вопрос о захоронении был очень насущным. Обычай гласил, что тело следует хоронить в течение двадцати четырех часов, но когда все предводители племени и родов принимали участие в шуре, ничего не оставалось, как только ждать. А теперь когда шура уже выбрала себе предводителя, Абу Бекр вероятно должен был сделать похороны Мухаммеда основным событием, сценой для подтверждения его избрания, и было точно, что Али будет отрицать его избрание Тогда не надо никаких похорон, лишь погребение тела под покровом ночи.
В первые часы утра в среду Аиша была разбужена шумом лопат, которые эхом отдавались со двора мечети. Она, зная, что тело ее покойного мужа лежит в ее комнатушке, Аиша вместе с другой женой Мухаммеда Хафсой, дочерью Омара, закрылись в другой комнате. Истощенная от скорби она не стала искать источник этого шума. Если бы она стала бы искать, то увидела бы, как Али и его родственники роют могилу в комнате Аиши кирками и лопатами.
Мухаммед говорил, что пророков надо хоронить там, где они умерли. Так пояснили они позже. Так он умер на одре в комнатушке Аиши, то его следовало бы хоронить именно там, поэтому они стали рыть могилу в этой комнате. Когда вырытая могила была достаточно глубокой, они взяли обернутое в саван тело Пророка, положили его в могилу и быстро засыпали его. Сверху могилы они поставили каменный столб.
Никто из жен не присутствовали при похоронах Мухаммеда, никто из переселенцев, никто из ансар. То было постфактумом, последним свершившимся фактом, как и решение шуры. Комната Аиши, где она спала, ела и жила, стала могилой Пророка, а ее отец стал новым предводителем Ислама, первым из трех халифов в следующие двадцать пять лет, и Али среди них не окажется. Начинались те самые «годы пыли и шипов», которые он так и звал.
ЧАСТЬ 2 АЛИ
Глава 6
Если вы, мой читатель, верите в судьбу, то, впрямь, подумаете, что судьба не давала и малейшего шанса Али взойти на престол халифа. И что когда он стал им, двадцать пять лет спустя после смерти Мухаммеда, он тем самым словно подзадорил судьбу и предрек последующую за этим трагедию. Его «прокатят» не раз и даже не два, а три раза за эти двадцать пять лет, и все эти годы по его же словам он жил «с пылью в глазах и шипами во рту».
Пыль и шипы – живой образ обитания в изгнании, и не в физическом, а в предначертанном изгнании, когда лишаешься надежд и своего «я». В то же время для Али этот образ был жестоко парадоксальным. Лев Бога был одним из многочисленных титулов, которым удостоил его сам Пророк. А сейчас перед нами стоял Абу Тураб, Отец Пыли, титул, малозначащий для жителей Запада, но столь важный для арабов.
Одни говорят, что его прозвали Абу Турабом из-за пыли, который клубился вокруг его коня в гуще событий на поле брани, другие утверждают, что однажды Мухаммед нашел своего молодого племянника, который был погружен в медитацию молитвы, когда вокруг него бушевала песчаная буря, и его белое одеяние было покрыто слоем пыли. Третьи говорят, что это прозвище пришло от первых лет проживания в Медине, когда Али трудился в поте лица, таская камни и воду, образ защитника тружеников, мост между первыми арабскими мусульманами и грядущим поколением новых мусульман.
Все три версии имеют право на существование, и во всех трех версиях пыль являлась знаком славы и почета. Как и сейчас, в наши времена, правоверные шииты все еще собирают пыль песков Наджафа, в городе, где стоит златоглавый храм Али, в сотне милей от Багдада, прессуют эту пыль в небольшие кругляшки-цилиндрики и кладут их перед собой, когда молятся. Прикладываясь к этим кругляшкам лбом, они соприкасаются со священной землей.
На протяжении многих веков шииты всего Ближнего Востока считают высокой честью, если их бренные телеса находят последний приют в священной земле Наджафа. И если раньше их обернутую в саван плоть доставляли в ковровых рулонах на мулах и верблюдах, то сегодня ту же операцию проделывают на автомобилях и грузовиках. Похоронная процессия несет покойника и обходит храм Али в Наджафе или храм сына Али, Хусейна, в Карбале, и только потом отправляется к громадному кладбищу Вади-ас-Салам («Долину мира»), чтобы потом, в Судный День, когда потомок Али, Махди, восстанет вместе с Али и Хусейном, чтобы положить начало новой эре, эре истины и справедливости.
Но в те дни после смерти Мухаммеда истина и справедливость казались далеки от Али. «Горе Ансарам Пророка и его роду, — писал один из Мединских приверженцев. – Сузилась земля под ногами Ансаров, а лица их стали черными как сурьма. Мы стали истоком рода Пророка, и его последним пристанищем. Уж лучше бы Всевышний в тот самый день, когда положили его в могилу и наполнили могилу землей, умертвил бы всех нас, чтобы мы не пережили своего Пророка. Нас унизили».
Хашимитский поэт более лаконично высказался по этому поводу: «Нас обманули самым чудовищным образом».
Они в одночасье стали обездоленными, ибо их лишили того, что они считали праведным, их лишили Ислама. И это чувство обездоленности въестся глубоко в души и сердца шиитов, нанесет нетленную рану, и подпитает чувство ненависти к западному колониализму, взорвет мир Иранской революцией, гражданской войной в Ливане, а уж на пороге двадцать первого века войной в Ираке. Вот эта обездоленность и стала тем самым кличем, причиной, почему классическое антиколониальное произведение Франца Фанона «Проклятые этой Земли» 1960 года стало бестселлером в Иране, жители которого позволили себе изменить название этой книги (книга имела название «Обездоленные в мире»), чтобы приблизить ее к извечной проблеме шиитов. Наступит время и шииты выступят за Али, вернут себе, пусть и в бою, свою долю. Но вначале были пыль и шипы.
Шипы не заставили долго ждать. Несмотря на то, что многие уже выстроились в очередь, дабы публично принести клятву верности избранному халифу Абу Бекру, человек, которого просто игнорировали на выборах, оставался дома в кругу семьи. По его словам он держал траур по умершему Пророку, и это было на самом деле так. Отказ Али явиться и дать обет верности Абу Бакру было таким же ясным жестом открытого неповиновения и серьезного вызова. И если бы Али выдержал паузу, то мединские ансары по всей вероятности отказались бы от обета и последовали бы за ним, сокрушив тем самым решение шуры. Али надо было потянуть на себя, и довольно быстро, поэтому Абу Бакр поручил это дело Омару. и этим совершил ошибку и усугубил ситуацию.
Привлечение воинственного Омара к решению деликатной задачи являлось по меньшей мере неудачным решением Абу Бакра. Храбрость и решительность Омара как предводителя войск были вне сомнения, также несомненна была его репутация человека кнута, мужлана, не утруждающего себя словесными тонкостями. Он не был тонким, деликатным, что и доказал в полной мере в ту самую ночь, когда собрав группу вооруженных людей, он повел их к дому Али. Омар окружил своими людьми дом, и сам встал прямо перед дверью. Он зычным голосом призвал Али выйти и принести обет верности Абу Бекру, а иначе, пригрозил он, он и его люди подожгут дом Али.
Позднее Али признается, что если бы у него было хотя бы человек сорок в поддержку, то он сразу же вступил бы в противостояние с Омаром. Но в ту ночь рядом с Али были только члены его семьи, мы их называем Ахль уль-Бейт, Люди Дома. Али выбрал путь пассивного сопротивления и не сдвинулся с места.
Увидев, что на все его угрозы, призывы убить самых близких людей Мухаммеда, Али просто не отвечает, Омару ничего не оставалось делать, как предпринять физические действия и вломиться в дом Али. Он так и сделал, коротким разбегом он со всей силой выдавил дверь в жилище Али. Дверь под весом огромного Омара (рост его составлял 180 см) настежь распахнулась, и он не смог остановиться, ворвался в дом и сшиб с ног Фатиму, стоявшей по другую сторону двери. А ведь Фатима была вот уже несколько месяцев беременна третьим внуком Пророка!
Одни говорят, что ее серьезно раздавило. Другие утверждают, что она сломала руку, когда падала. Но все согласны с тем, что даже сам Омар был ошеломлен, увидев под ногами согнувшуюся вдвое от боли беременную дочь Пророка. Али склонился над своей супругой, Омар, не сказав ни слова, просто ретировался. Свою точку зрения он уже высказал.
Через несколько недель хрупкая Фатима родила мертворожденного младенца мужского пола. Никто не знал, что послужило столь быстрому рождению ребенка, удар Омара или слабость и болезненность Фатимы. Как бы то ни было, Абу Бакр, или, как минимум, Омар мог бы принести свои извинения, но этого не последовало. Наоборот, они пошли на обострение.
Чтобы подлить масло в уже разгоревшийся огонь, они начали лишать Фатиму имущества, которое она считала своим. Вскоре после выкидыша она пишет письмо Абу Бакру и просит в нем свою долю от отцовского поместья – сады из финиковых пальм в огромных оазисах Хайбара и Фадака, расположенных к северу от Медины. Ответ халифа просто потряс ее. Абу Бакр ответил так: поместье Пророка принадлежит общине, а не отдельному лицу. Поместье входит в мусульманский благотворительный фонд и управляется лично им как халифом. Он не вправе раздавать средства из этого фонда отдельным лицам. Абу Бакр процитировал в письме Мухаммеда: «У нас нет наследников. Чтобы мы ни оставили после себя, все это милостыня».
Фатиме ничего не оставалось делать, как принять этот ответ. Репутация честности и неподкупности Абу Бакра была вне сомнения. Сунниты впоследствии приветствовали позицию Абу Бакра, как утверждение превосходства интересов общины над интересами наследственных прав отдельных лиц. Своим действием Абу Бакр словно заявлял: «Ты не одна из Ахл аль-Бейт, мы все из Ахль аль Бейт». А шииты тем временем поняли, что самые близкие люди из рода Мухаммеда стали не просто обездоленными, а обездоленными вдвойне: впоследствии один из поэтов это точно отразил в одном из своих стихов – «Али лишили наследства на власть, Фатиму – наследства на имущество».
Никто не стал отрицать популистского призыва в послании Абу Бакра, заключающегося в ответном письме, где халиф пресек претензии Фатимы: Дом Мухаммеда был Домом Ислама, и все в этом доме становились равными. Но как и всегда, некоторые были ровнее других. Не успел Абу Бакр отказать Фатиме, как совершил щедрый жест в отношении вдов Мухаммеда, и в особенности к своей дочери Аиши, которая получила в дар хорошее имущество в Медине, а также имущество на другой стороне Аравийского полуострова, в Бахрейне.
Это стало последней каплей терпения Фатимы. Чванливая молоденькая жена ее отца была удостоена столь высоких подачек, а ей, перворожденному чаду Мухаммеда от первой и самой любимой жены отказывают? Она так и не оправилась от выкидыша и от этой горькой несправедливости Абу Бакра. Но, может быть, самой горькой пилюлей в те месяцы после потери третьего сына, заключалась в гонении на Али, чтобы подчинить его Абу Бакру.
В связанном тесными узами обществе бойкот считается мощным оружием. Повседневное, еженедельное давление на человека делает его невидимым. Люди отворачиваются от него, друзья держат дистанцию, знакомые проходят молча мимо, смотрят сквозь тебя, словно тебя нет. Даже в мечети Али молился в одиночестве.
Парадоксально, но ровно этим же оружием пользовались в Мекке против Мухаммеда и его рода. Несмотря на свою непререкаемую власть, элита Мекки ощущала ее нестойкость и даже собирались физически расправиться с Мухаммедом. Сейчас власть таким же образом шаталась под троном Абу Бакра. Фатима продолжала упорствовать, не признавая ни власти, ни халифа. Когда она узнала о приближающейся своей смерти, то за три месяца она попросила Али похоронить ее скрытно, как и отца. Она попросила не сообщать Абу Бакру о ее смерти. И уж ни в коей мере Халиф не должен присутствовать на ее похоронах. Ее похороны должны проходить в тихой обстановке, в кругу ее семьи, в кругу истинного Ахл Аль-Бейт.
Смерть соперницы не вызвало чувства триумфа у Аиши, она была необычайно спокойна. А зачем ей надо было ликовать? Она уже имела двойную славу – вдовы Пророка и дочки преемника Пророка. Мы чуть не забыли третью славу Аиши — ведь именно ее комната служила могилой Мухаммеда.
Можно увидеть, как некоторые высоко ценят образ юной жены, спящей со своим мужем, погребенным под ее ложем. Это нечто вроде магического реализма, подобно эпизоду из книги Габриеля Гарсия Маркеса, но это не роман, это реальность. А реальность заключалась в том, что Аиша никогда более не спала в комнате, где был погребен ее муж. Все вдовы выехали из своих комнатушек во дворе мечети, каждой была дана отличная пенсия, пенсия Аиши была выше всех. Она более не ела и не спала всю свою оставшуюся жизнь в компании со своим почившим мужем, хотя вела себя так, словно она это делала.
И если она столь рьяно стремилась овладеть Мухаммедом еще при жизни последнего, эта рьяность ничуть не поубавилась после смерти Пророка. Аиша становилась основным источником хадисов, сообщений о жизни Пророка, или сунны, в большом и малом, начиная с крупных вопросов и кончая такими мелкими деталями, как, например, когда и как он умывался, какими зубочистками пользовался. Сунниты стали именовать себя именно благодаря сунне, они стали претендовать на нее, как бы то ни было, несмотря на то, что и шииты имели свое веское слово на сей счет.
Не имеет значения, сколько хадисов были приписаны к Аише, а такие хадисы исчислялись тысячами, будущее будет неблагосклонно к ней. Покуда она будет жива, ее назовут матерью правоверных, но в памяти людской она так и останется опальным символом клеветницы. В последние века консервативные клерикалы указывают на нее, когда хотят показать, какой раскол может получиться, если в публичную жизнь войдет женщина. А ведь Аиша на самом деле стала той самой женщиной, которая способствовала расколу, когда, вконец, Али стал халифом. Все то, что делала ее столь привлекательной мирскому разуму, а именно, ее амбиции, прямолинейность, упрямство, будут работать против нее в исламе, даже среди суннитов.
Какое значение имеет, насколько бледной была фигура Фатимы по сравнению с Аишей, какое значение имеет насколько молодой умерла Фатима, какое значение имеет, что ей так и не было суждено продиктовать свой ход истории, время благоволило ей. Шииты называют ее Аз-Захра, Излучающая. Может быть в жизни своей она была не столь излучающей, а прямо противоположной, бледной, скромной, держащейся в тени, это все не возымело действия. То было излучением духа, чистым светом святости, ибо кровная линия Пророка проходила через Фатиму и ее двух сыновей.
В преданиях шиитов Фатима живет в ином измерении. Она свидетельствует о страданиях своих сыновей и оплакивает их. Она – Святая Мать, сын которой пожертвовал собой, чтобы искупить вину человечества, как это сделал сын другой не менее великой матери Марии. Подобно Марии Фатиму часто нарекают Пречистой, в знак уважения к ее духовной чистоте. Подобно Марии Она будет нести траур по своему отпрыску до Судного Дня, когда, как гласит предание, она восстанет и пронесет отравленное сердце Хасана в одной руке и отрубленную голову Хусейна в другой.
Али выполнил завещание Фатимы. Он похоронил ее под покровом ночи, как и ее отца. И затем, предав ее земле, он сделал то, что он делать отказывался с тех пор, как его обманули, не выбрав халифом. Он уступил, дал обет верности Абу Бакру. Многие говорили, что скорбь и отчаяние подействовали на него, но в действительности были причины, которые заставили его пойти на этот поступок.
По мере распространения вести о смерти Мухаммеда по всей Аравии, распространялся и мятежный дух. Многие племена на севере и в центре полуострова угрожали выйти из Ислама, как минимум не платить налоги. Это было не вопросом веры, утверждали они, а просто желанием обрести племенную независимость. Отдать дань памяти Пророку – это было одно, а вот наполнять казну корейшитов – было совсем другим.
Как того желал Мухаммед, Али был верен Фатиме до самого конца, но сейчас, как он утверждал, настало время для большей лояльности. Время недовольств уже прошло. Он дал обет верности Абу Бакру ради единства перед лицом распада, ради блага общины, создания единого фронта против сил раскола. Если этот поступок являлось преобладанием идеалистических соображений над опытом, пусть это будет так. На самом деле позднее его последователи восхвалили этот поступок как акт наивысшего благородства. Но благородство Али было вне сомнений. Его наивысшей добродетелью было величайшее чувство долга.
Вместе с Али Абу Бакр мог провести жесткую линию с мятежными племенами. “Если они утаят даже иголку из того, что им дал Пророк, я буду воевать с ними”, — заявил он. При этом он не стеснялся выражений. То были простые погонщики верблюдов, он их называл «грубыми бедуинами» в глазах урбанизированной корейшитской аристократии. Тысячи арабских виршей, прославляющих чистоту пустыни, были не более чем ностальгическими идиллиями, чем позднее в Европе станут пасторальные изображения пастухов и пастушек или сам ковбой Джон Уэйн в Соединенных Штатах. На самом деле пастухи и погонщики верблюдов были особенными. Сегодня те остатки бедуинских племен, которых не поглотила еще городская жизнь, являются объектами насмешек внутри арабского мира.
Согласно Абу Бакру, так как налоги принадлежат Исламу, отказ платить налоги равносильно вероотступничеству. И если милость к человеку неверующему прописана, то, что можно предложить вероотступнику, человеку, принявшему Ислам, а потом отказавшемуся от него. Таких людей Коран не защищает, а значит можно обойти коранический запрет пролития крови мусульманина. Это харам, запрет в Исламе. Итак, снималось табу на пролитие крови, ибо вероотступник объявлялся врагом ислама. А, значит, убийство вероотступника отныне считалось халал, то бишь, разрешалось исламским законом.
Именно этот аргумент станет точкой опоры во взаимной борьбе суннитов и шиитов, экстремистов против умеренных, клерикалов против суфиев, а также более знакомой жителям Запада и вызывающей в них особую печаль борьбы аятоллы Хомейни против Салмана Рушди. Просто назовите вашего противника вероотступником и как говорят арабы – его кровь халал.
Вероотступнические войны, ридда, были такими же беспощадными, какими обещал их Абу Бакр. В течение года сопротивление племен, выступивших против мусульман, было сломлено, и мусульмане начали продвигаться на север Аравии. Казалось, что под руководством первого из четырех халифов, сунниты их нарекут рашидун, «правоверными», Ислам раскроет весь свой потенциал. Но спустя год, когда силы Абу Бакра были готовы осадить Дамаск, город к северу от Аравии, который находился под контролем Византии, Абу Бакр смертельно заболел лихорадкой. Он будет единственным Исламским лидером, который на протяжении следующих пятидесяти лет умрет естественной смертью. На этот раз уже никто не сомневался, кто станет его преемником.
Некоторые сунниты скажут позднее, что Абу Бекр действовал так, словно щадил свою общину от раскола, который мог бы произойти перед его избранием. Другие утверждают, что перед лицом арабских завоеваний он хотел видеть во главе исламской общины сильную, воинственную личность. Шииты здесь усмотрели другое. Они утверждали, что Абу Бакром руководила ненависть к Али, и Абу Бакр не хотел вводить во власть молодого соратника. Но что бы то ни было, завещание Абу Бакра на смертном одре было недвусмысленным: не надо никакого шура, не надо собирать конклав глав племен и старейшин. Хотя он сам был избран всеобщим консенсусом, Абу Бакр имел добрую причину не довериться этому процессу.
Но что тогда делать? В доисламские времена все было очень просто: один из сыновей Абу Бакра просто взЯл бы и занял бы место отца. Ведь наследственная монархия и потому так долго продолжалась в истории, так как она устанавливала четкую линию преемства, она старалась избежать путаных переговоров, политического маневрирования, осложнений, изнурительного хрупкого процесса, который мы сегодня называем демократическим. Ислам был значительно эгалитарной религией. В своей борьба со сторонниками Али Абу Бакр еще после смерти Пророка заявлял, что власть, как и пророчество, нельзя унаследовать. Таким образом он сталкивался с вопросами, которые сегодня пересекаются с самыми лучшими намерениями на Ближнем Востоке: как применять принципы демократии? Как демократия будет работать, если в обществе нет общего консенсуса относительно ее принятия, когда еще не построен остов демократических принципов?
Вы можете сказать, что Абу Бакр пошел усредненным путем. Он назначил преемника, но не по родству, а по заслугам. Он выбрал человека, которого посчитал самым лучшим на тот момент. Два года тому назад он также предлагал его на халифат на шуре. Что поделать? Это еще раз докажет его последовательность. А шииты увидят в этом еще одно подтверждение тайного сговора — умирающий Абу Бакр назначил Омара вторым халифом.
И вновь Али перехитрили, и вновь его просто провели, на это раз халифом назначали человека, который ранил его жену, угрожал сжечь его дом. Но даже когда Абу Бакра похоронили рядом с Пророком, то есть под ложем Аиши уже покоились не один, а два человека, Али настоял на том, чтобы его сторонники сохраняли мир. Он не стал выступать против Омара, он повел себя во второй раз достойно и благородно. Он дал обет верности Абу Бакру и был человеком слова, и сейчас такое же слово он дал назначенному преемнику Абу Бакра, невзирая на историю взаимоотношений между ними. А все те сомнения окружающих недоброжелателей в абсолютной приверженности Али духу и букве ислама, он убил замечательным ходом. Когда Омар приступил к правлению, Али женился на самой молодой вдове Абу Бакра Асме.
В современном мире жениться на вдове твоего бывшего соперника является актом мести. В Аравии седьмого века все было наоборот: этот жест являлся жестом примирения. То, что Али женился на Асме, было актом протягивания руки, исцеления всех разногласий, образования прочного альянса. Вместе с Али этот импульс исцеления Ислама проник довольно глубоко: он формально усыновил трехлетнего сына Асмы и Абу Бекра и сделав это он протянул руку уже в другом направлении – к своей уже сводной сестре, влиятельной Аише.
И вновь, Аиша проявила удивительное хладнокровие. Нет никаких сообщений об ощущениях Аиши в тот миг, когда Али отнял у нее часть ее семьи. Но спустя годы, когда ее сводный брат вырос в доме Али, она возненавидит верность брата к Али, и эта ненависть будет слишком очевидной. И этот молодой человек, которому волею судьбы было предначертано объединить двух врагов, только ухудшит дело. А вскоре произошло и второе событие, упомянутый союз затмил другой, просто потрясающий союз. Самым сильным признаком единства было решение Али отдать Омару в жены свою дочь, старшую внучку Пророка, Умм-Кульсум.
Широко вьющийся стебель брачного союза пересекал все поколения и политические разногласия. Удивительно, Омар был того же поколения, что и Мухаммед, но женился на его внучке. Али был на тринадцать лет моложе Омара, и был его тестем. И если Фатима просто подумала бы лежа в неприхотливой могиле о том, что одна из ее дочерей выйдет замуж за человека, который ворвался в ее дом, пригвоздил ее к полу, то ценой этого акта было единство, и дарственная Омара, который переписал большую часть поместий Мухаммеда на имя Али, в точности то, чего и хотела Фатима.
Омар был теперь дважды связан с Мухаммедом: он был тестем Али и мужем его внучки. Таким образом он обезопасил свой халифат. Али все еще был самым сильным соперником, но Омар следовал древней политической поговорке, держи друзей рядом с собой, а врагов еще ближе. Как зять и тесть они двое хорошо сработались, так хорошо, что когда Омар собирался в поход и уезжал из Медины, Али оставался в этом городе его заместителем. А это было ясным знамением того, что когда настанет время, халифом станет Али.
Арабские завоевания начались в полном объеме. Омар к титулу Абу Бакра как заместителя Мухаммеда добавил еще один титул – Повелитель правоверных. И на самом деле он был превосходным повелителем. Омар жил в скромных условиях, был готов со своими воинами воевать, спал, обернувшись в тунику, на песке, вел воих людей в сражения, а не командовал ими с тыла. Поэтому все воины ему верили и почитали. Репутация строгости и дисциплинированности уравновешивалась его стремлением быть справедливым. Его приверженность Исламу подчеркивалась его толерантностью к фаворитизму, по меньшей мере ко всем членам его рода. Когда один из его сыновей появился на публике пьяным, молодого человека по приказу Омара «наградили» восемью ударами кнутом. Омар отказался держать траур, когда в результате наказания, сын его умер.
Десять лет правления Омара привели к тому, что арабы завоевали Ирак и Сирию. Захват был столь стремителен, что его часто объясняют «племенной необходимостью к завоеванию». Фраза неизвестна антропологам, но она напоминает образ кровожаждущих народов, побуждаемых сильными первобытными страстями, угрожающих здравому рационализму более цивилизованных народов, образ, который непрерывно отражается эхом на текущей сцене конфликтов Ближнего Востока.
В действительности, в этих завоеваниях было меньше крови, больше денег. Мусульмане одерживали внушительные победы над персами и византийцами, вопреки численному превосходству, но по большей части арабское завоевание имело место словом, а не мечом. С учетом выбора принять арабское правление, несмотря на меч в ножнах, большинство субъектов Ислама не имели таких больших возражений. Вообще арабы не выглядели чужеземцами.
Задолго до того, как Мухаммед взял власть в свои руки, мекканские аристократы уже владели поместьями в Египте, домами в Дамаске, хозяйствами в Палестине, финиковыми садами в Ираке. Они пускали корни в городах и землях, где торговали, ибо быть купцом в седьмом веке означало быть путешественником, а быть путешественником означало быть жителем, хоть и временным, этой страны. Дважды в год мекканские караваны посещали Дамаск, за один раз до четырех тысяч верблюдов входили в этот город, и не просто останавливались, а шагали по этому большому городу-оазису. Они оставались в нем на протяжении месяцев, знакомились, вели переговоры, гостили. Арабские купцы становились частью социальной, культурной и экономической жизни тех стран, которых они сйечас захватывали.
А время было просто совершенным. Пока проходило становление Ислама, в мире появился большой вакуум власти. Две великих империи, византийцы на западе и персы на востоке быстро увядали, изнашивали друг друга постоянными военными столкновениями. Персы более не могли поддерживать огромные ирригационные системы Тигра и Евфрата в Ираке. Позиции византийцев в Дамаске и Иерусалиме были непрочными. Обе империи разрушались из внутри, их мощь затухала по мере роста мощи мусульманских народов, когда земли вокруг так и просились для захвата.
Принуждения к исламу не было. Напротив, Омар препятствовал верообращению. Он хотел держать Ислам, то бишь, арабов, в чистоте, подобное отношение питало ненависть среди персов к Омару, которые ощущали унижение этим, и поэтому после его смерти персы массово стали принимать Ислам. Он даже приказал двум новым гарнизонным городам, построенным в Ираке, Басре на юге и Куфе в центре, защитить его наместников и войска от того, что он называл персидским декадентством.
Но был еще один, очень сильный стимул свести к минимуму верообращения. Омар учредил диван, систему, согласно которому каждый мусульманин получал ежегодное пособие. То же самое продолжается и по сей день, скажем в Дубае, где граждане этой богатой нефтью государства получают пособия. Это означало, что чем меньше мусульман, тем больше размер пособия, а налоги, из которых платили эти пособия, могли быть не выше налогов, оплачиваемых первоначально византийцами и персами. Вначале было небольшое сопротивление. Как и в любой смене режиме сегодня, когда фотографии старого правителя внезапно скидываются со стен и водружаются фотографии нового правителя, большинство людей соглашались с арабским правлением. Но не все.
Нельзя предвидеть убийства, говорят мединцы. Они возникают словно гром среди ясного неба. Кто бы мог подумать, что какой-то раб-христианин из Персии лишится разума и совершит такое? Проткнуть халифа шесть раз во время утренней молитвы в мечети, а затем вонзить кинжал себе в грудь? Просто непостижимо.
Появились намеки на конспирацию — завуалированное высмеивание самой идеи убийцы-одиночки, так сказать, взамен сложного заговора темных сил по подрыву новорожденной исламской империи. Но в седьмом веке, как и в двадцать первом, людьми могло руководить противоречащее здравому смыслу отчаяние. Или в этом случае может быть, рациональное безумие.
История состояла в том, что рабовладелец обещал освободить своего раба, но не стал выполнять своего обещания. Раб обратился к Омару, дабы добиться справедливости. Но он получил от ворот поворот и в нем зародилось такое сильное недовольство Омаром. История имело свой смысл, люди были рады принять ее. Даже когда Омар лежал смертельно раненный, даже когда они смотрели на своего умирающего предводителя, который правил ими двенадцать лет, не было какого-то ярко выраженного чувства облегчения, что убийца был не из них. Он был персом, не арабом, христианином, не мусульманином. Убийство, пусть и страшное, было поступком выжившего из ума, постороннего лица. Мусульмане не убивают мусульман. Это был харам, запретно, все еще вызывал ужас.
И вновь умирающий халиф столкнулся с вопросами преемства. Процедуры не было. Решение могло быть противоречивым, и в грядущие века могло вызвать проблемы. За несколько часов до своей смерти Омар решил проложить средний курс между открытым консенсусом шуры и властью назначить своего преемника. Как и ожидалось, он назначил Али, но неожиданно появились кандидатуры еще пяти, так что кандидатов стало целых шесть. Эти шесть, он указал, должны были быть и кандидатами и выборщиками. Один из них должен был быть его преемником, но кто из них будет преемником, решать этим шести. Они должны были встретиться в скрытом совещании после его смерти и принять решение в течение трех дней.
Был ли он уверен, что выборщики выберут Али? Думаю, что да, но двое из кандидатов были деверями Аиши: ее двоюродный брат Зубейр и Тальха, человек, тот самый, который опрометчиво заявил, что хочет жениться на ней. Третьим был Осман, аристократ из рода Умеййадов, кого Абу Бакр назначил руководителем шуры после смерти Мухаммеда. Они по-видимому не были склонны видеть Али в качестве халифа.
Под ложем Аиши вырыли третью и на этот раз последнюю могилу для Омара. Шестеро собрались в комнатушке за пределами мечети. Омар дал им страшную задачку. Если так много не стояло на кону, то эту встречу можно было бы назвать чертовски интригующей игрой в стратегию: шестеро мужчин в запертой комнате не могли ее покинуть до тех пор, пока они не скооперируются, а кооперация в этом вопросе было делом последним, к чему они были готовы. Каждый из шести хотел стать халифом. Но все шестеро должны были согласиться с тем, что халифом мог стать кто-то из них. Никто не хотел, чтобы его видели столь рьяно желающим этого титула, но никто и не хотел уступать эту возможность.
На третье утро они сузили свой выбор до двух зятей пророка – Али и Османа. Многим, стоящим за этой комнатой, стало очевидно кто станет халифом. С одной стороны стоял Али. Ему шел пятый десяток, он был выдающимся философом-воином, он был первым, кто принял Ислам. Он был заместителем Мухаммеда и Омара. С другой стороны стоял Осман, человек набожный, богатый, из рода Умеййадов, который был из первых мусульман, но он никогда не участвовал в сражениях. Ему было семьдесят лет и он уже далеко перешагнул линию средней продолжительности жизни. Никто не мог ожидать, что он будет жить еще долго после этого, и именно это оказалось его преимуществом.
Если поставить на Османа и не дать Али взять власть свои руки, то у всех остальных оставалась возможность стать лидером в следующий раз. Они видели в Османе временное решение, замену, пока они не смогут собрать вокруг себя достаточно сил, чтобы стать следующим халифом, когда Осман умрет, года через два-три. Али сам стал свидетелем этого немого консенсуса среди всех в комнате, и он был бессилен ему противостоять. И на закате третьего дня они объявили о своем решении публично в мечети, и он увидел, что его период пыли и шипов еще не окончился. И уже в который раз в своей жизни Али принес обет верности, на этот раз Осману.
Как это горько было наблюдать, как бремя лидерства в очередной раз уходит из рук? Каким терпением надо это запастись? Каким благородным надо быть, чтобы только не затронуть единство Ислама? В ослепляющем свете прошедших событий Али надо было быть более настойчивым, уверенным в своем праве правления. Но тогда он не был бы тем человеком, которым он был, а именно благородным, милостивым, честным, человеком слишком почетным для наскоро и грубо состряпанной политики.
Или, может быть, он тоже думал, что Осману осталось недолго жить?
Глава 7
Если бы не благородные гены Османа, то крови бы пролилось немного, да и его кровь была бы нетронутой. Поэтому с теми, которые называют долголетие Османа признаком благословения, можно спорить. Факт остается фактом, он вопреки ожиданиям прожил целых двенадцать лет. Когда он умер ему было восемьдесят два года, а умер он не от старости. Как и предшествовавший ему Халиф Омар, Осман тоже пал от кинжала убийцы. Но на этот раз убийцей оказался мусульманин, поддержанный многими единоверцами в силу повода, приведшего убийцу к своей жертве.
Осман был человеком, привыкшим к привилегиям. Он очень любил ухаживать за собой, впрочем это относится зачастую к тем, кто уверен в себе и сохраняет внутри себя аристократический дух. Несмотря на обезображенные оспой щеки, люди, видевшие его, говорили о «златом оттенке лица» Османа, о его блестящей улыбке — блестящей не только потому, что зубы его были белоснежны как снег, но и ввиду того, что вокруг зубов он носил золотистую нить как украшение. Может быть, вот это подчеркнутое отношение к золоту и стало причиной тому, что с ним случилось.
Его предшественник Омар предвидел это. Когда Омар получал трофеи Персидского двора в Медине, на лице Халифа не было самодовольства, как все надеялись увидеть. Наоборот, он смотрел с горечью и печалью на груды золотых изделий, инкрустированные драгоценными камнями мечи и кинжалы, щедро украшенные шелковые ткани. По щекам Омара текли слезы. «Я плачу, — говорил он, — ибо эти богатства порождают ненависть и взаимную горечь». Уже при Османе Арабская империя пересекла Египет. На западе она покорила Персию, на востоке – завоевала прибрежные области Каспийского моря. Далее мусульманские воины пошли на север. Богатства рекой текли в казну Омара. Но с этим богатством росло и опасение Омара. Когда-то Мухаммед выхватил бразды правления Меккой из рук Омеййядов, к которым принадлежал Осман. Теперь, после того, как на Халифский престол взошел Осман, Оммейады втайне начали надеяться на возвращение всех титулов и прав. А Осман, казалось, не может или просто не хочет воспротивиться своим сородичам.
В набожности Османа, в его преданности идеалам ислама не было сомнений, как и не было сомнений в приверженности третьего Халифа своему роду. Самые высшие военные посты, губернаторские должности, высшие позиции были распределены среди Омеййядов. Если способный человек не принадлежал к этому роду, то его запросто снимали с должности. Как и следовало ожидать от людей, занявших должность в результате протекции, новые назначенцы занимались коррупцией. Один из полководцев был просто в ярости, видя, как его упорный труд был не оценен по достоинству и его власть была подмята жадностью других: «Я, что, должен держать корову за рога, пока другие будут ее доить?» — вопрошал он.
При Абу Бакре и Омаре этика Мухаммеда, идеалы простоты и равенства превалировали. При Османе же материальность становилась правилом дня, что выражалась в экстравагантном новом дворце Османа, построенном для него в Медине, с внутренними садами, мраморными колоннами, с завезенными продуктами питания и поварами. И если Абу Бакр и Омар называли себя относительно скромно, а именно преемниками Мухаммеда, Осман взял себе титул куда более грандиозный – преемника Бога, Его представителя на земле, тем самым вымостив путь для многих будущих правителей, претендующих на то, что их мирская власть происходит от милости Божьей.
Старая мекканская аристократия быстро превратилась в новую мусульманскую аристократию. Осман начал передавать обширные частные поместья своим родственникам, порой в придачу с тысячами лошадей и рабов. Огромные участки плодородной земли в Междуречье передавались Омеййядским богачам. Вскоре вся Месопотамская долина стала называться Садом Омеййядов. Еще одним результатом правления Османа стала компиляция Корана и его распространение на север до Эгейского моря, на запад — до побережья Северной Африки и на восток — до границ Индии. На всей этой территории властвовали Омеййяды.
Правящий класс Мекки возвращал себе контроль, словно нанося ответный удар за поражение. По мере того как протекция и коррупция постепенно входили в жизнь обывателей, люди, держащие корову за рога, начали выступать против тех, кто доили этих коров. В результате возникали такие явления, как экспроприация имущества, депортация людей, заключения в тюрьмы и даже казни. Самые уважаемые люди общества, первые соратники Мухаммеда начинали выступать против подобной практики. Пятеро выбравших Османа тоже начинали роптать. Самым активным среди них был Али.
Он обратился к обществу с воззванием, что имущество ислама присваивают, что Омеййяды, подобно стае голодных животных, пожирают все на своем пути. «Осман невиновно пожимает плечами, — говорил Али, — а его братья рядом с ним пожирают имущество Бога, как верблюды уничтожают весеннюю траву». Бесценное обилие исчезает, остается голая пустыня.
Свой голос подняла и Аиша, которая хоть раз в жизни, но встала на сторону Али. Она назвала Османа «старым хрычом», дряхлым старикашкой, порабощенным своими родичами, и прозвища эти поражали свидетелей, унижали Османа, издевались над ним.
Некоторые стали поговаривать, что Аиша выступила против Османа, когда последний решил уменьшить ее ежегодное пособие до размеров пособий других матерей правоверных, тем самым нарушив ее первенство. Другие говорили, что она действовала так, в надежде, что ее двоюродный брат Тальха станет Халифом. Но несомненно и то, что Аиша на самом деле была рассержена на тот размах коррупции, о которой она призадумалась после скандального поведения Валида, одного из сводных братьев Османа.
Будучи губернатором гарнизонного города Куфы в центральном Ираке Валид и не думал тревожиться своим аристократическим пренебрежением к жителям, находящимся под его контролем. Со свойственным ему арабским снобизмом, который все вырывался на поверхность, он презрительно увольнял иракцев, называя их «провинциальной шпаной». Несправедливые заключения в темницы, конфискация земель, растраты государственного имущества — эти жалобы, как поговаривал Валид, не более чем бздение козы в пустынных равнинах Эдома».
Однажды бздение козы услышали в Медине. Валид появился вдребезги пьяным перед собравшимися в мечети верующими в Куфе, и его затошнило и вырвало с кафедры в сторону. Куфийцы послали делегацию в Медину, чтобы потребовать отставки этого губернатора и его публичной порки. Но Осман дал решительный отказ. К тому же Осман пошел еще дальше, он пригрозил наказать куфийцев за то, что те осмелились выступить с подобным требованием. Тогда куфийцы обратились за помощью к матери правоверных, а Осман, услышав об этом, ухмыльнулся: «Смотри-ка, мятежники и скандалисты Ирака не нашли нигде убежища, кроме дома Аиши?»
Итак, перчатка была брошена, и не только в лицо «мятежников и скандалистов Ирака», она попала и в лицо Аиши. Все стали судачить об ухмылке Османа, но в то же время все считали ее просто глупостью. Может быть, Аиша была права, называя Османа старым хрычом. Может быть, он и вправду потерял свою хватку, или по меньшей мере способность к оценке. Конечно, потерял. А как можно было объяснить тот факт, что достопочтенного мединского старейшину, когда он стоял в мечети и публично поддерживал требования иракцев, взяли стражники и вывели за пределы мечети. Они действовали так рьяно, что сломали четыре ребра этому пожилому человеку.
И если Аиша и раньше была в ярости, то на этот раз она была очень разгневана. Виновного освобождают, а невиновного избивают? Ничто не могло теперь ее остановить. Если женщина покрывает свое лицо в общественном месте вовсе не означает, что ей можно заткнуть рот, и особенно в мечети. В следующую пятницу она начала утренние молитвы, размахивая сандалией, принадлежавшей Пророку Мухаммеду. «Смотрите, у меня в руках сандалия Пророка, и она еще не исчезла!» — закричала она на Османа своим высоким пронизывающим голосом. – «Как же вы быстро забыли сунну, его жизнь?»
Как же мог он, Осман, недооценить эту женщину? Но кто мог подумать, что простая сандалия могла обладать столь эффектной силой? Вся мечеть бушевала, посылая проклятия Осману, люди снимали свои сандалии и махали ими в поддержку Аиши. Новый пропагандистский инструмент оказал неизгладимое впечатление на всех Халифов, шахов и султанов грядущих веков, которые начали изготавливать неумеренное число витиевато показываемых реликтов Пророка, а именно сандалий, рубашек, зубов, ножниц для ногтей, волос, чтобы только укрепить свою власть.
Осману ничего не оставалось делать, как согласиться с отставкой Валида. Он задержался с выдачей соответствующего указа, но избежал требования выпороть Валида. Невозможно сказать, кто именно хотел этих восьми ударов кнутом, заявил он, хотя и это было явно несправедливым решением. Хуже было то, что между Османом и Омаром наблюдался резкий контраст. Никто не забыл того случая, когда Омар приказал выпороть своего сына, который умер под ударами кнута. При Омаре верность принципам Ислама превалировала над верностью роду, эти принципы разрушались Османом.
Просто отозвать своего сводного брата было недостаточно. Письма, призывающие к еще более строгим мерам воздействия, курсировали по всем пустынным маршрутам между Аравией, Египтом и Ираком и среди них, самые свирепые письма шли от Аиши. Она писала письма от имени всех матерей правоверных, она призывала настоящих Мусульман защитить Ислам от несправедливости и коррупции. Отклики на эти письма даже удивляли ее саму. В течение нескольких недель три колонны вооруженных воинов прибыли в Медину: по одной из гарнизонов Куфы и Басры, и одна из гарнизона Фустата в Египте, к югу от того места, где потом образовался город Каир.
Это была не «провинциальная шпана». Это были несколько сот самых лучших воинов-мусульман, ведомых людьми безупречной родословных, которые несомненно знали, чего хотели: или Осман предпримет решительные действия и удовлетворит жалобы, или он должен подать в отставку. Самыми известными среди них был сводный брат Аиши, сын Абу Бакра – Мухаммед бин Абу Бакр. Юноша, чья овдовевшая мать вышла замуж за Али, стал мужчиной, но он не обладал ни суждением, ни терпением своего отца и приемного отца. По его приказу три вооруженных колонны не стали расселяться по своим семьям, а демонстративно разбили лагерь в высохшем русле за стенами оазиса, и стали ожидать в полной боеготовности.
Вся Медина с напряжением ожидала дальнейшего развития событий. Планировался ли переворот? Пойдут ли мятежники на дворец, посягнут ли они на Халифа? Нет, это было просто немыслимым шагом; как никак, мусульманин не может умертвить мусульманина. И на самом деле, вопреки воинствующей позиции мятежников, а их можно было называть таковыми на тот момент, они не стали бездумно действовать Взамен этого они решили обратиться к Али, человеку, который своими действиями доказал свою преданность единству Ислама.
В течение двух недель Али был посредником. Несмотря на то, что одну сторону возглавлял его приемный сын, чьи требования Али полностью поддерживал, он поражался неосмотрительности и опрометчивости своего приемного сына, который нашел в себе силы столь воинственно угрожать Халифу. Другую сторону возглавлял Халиф, чей стиль руководства был противоположен всему тому, чему верил Али; но он поклялся в верности Осману, и был все эти годы верен ему. Роль Али заключалась в том, что он должен был стать объективным посредником, он должен был быть верен ни одной из сторон, а только благу Ислама, и он, наверняка, предпринял бы самые необходимые меры, если бы не двоюродный брат Османа и начальник штаба Марван.
Марван был известен под именем Ибн Тарид, сын изгнанника. По меньшей мере его так прозвали, увидев его отступление. Изгнанником, конечно, был не он, а его отец, котоырй был одним из самых ярых противников Мухаммеда среди Омеййядов. Когда Мухаммед завоевал Мекку, он дал всем корейшитам еще последний шанс вступить в ислам и стать полноправными членами мусульманской общины. При этом Мухаммед сделал единственное исключение — он не дал этого шанса отцу Марвана, кому он сильно не доверял, и который в последний момент выступил с поддержкой исламской веры. пророк решил его вместе с семьей изгнать из Мекки в горный Таиф. Абу Бакр и Омар, будучи Халифами, соблюдали этот приказ Мухаммеда. Но вот когда Осман стал Халифом, он отменил этот указ Пророка и пригласил своего двоюродного брата в Медину. Осман назначил его главой своей администрации. Должность главы администрации сулила огромные полномочия, и Марван сполна ими воспользовался. Он забрал себе огромный кусок военной добычи, оставшейся после завоевания Египта, он практически монополизировал рынок животных кормов. Хитрый, осмотрительный Марван целился и на самый главный пост в стране. Он все-таки станет Халифом, но сорок лет спустя, и то, на один год. А смерть настигнет его на кровати, когда Марван, женившийся на вдове смещенного им человека, станет жертвой этой самой жены и ее слуг, которые всей своей тяжестью навалятся на него и он задохнется под ними — бесславная смерть, доставляющая многим огромное удовольствие в пересказе. При Османе Марван обладал реальной властью. Каждое приближение к стареющему Халифу, каждое принятое решение в сфере финансов, каждая информация — все это проходило через него. Никто не вправе был переговорить с Османом без согласия Марвана. У людей складывалось впечатление, что перед ними правитель слабый, столь ошеломленный под тяжестью своей империи, что при малейшем ее проявлении, он уединялся и погружался в научные труды. Осман тратил большую часть своего времени на то, что собирал фрагменты Корана, и посему и не знал о масштабах деяний своего амбициозного родственника, разрушающих его собственную власть. Одно непонятно, было ли это на самом деле так, или политически мудрым можно было счесть обвинения Марвана вместо Османа, не известно.
Между тем у стен Медины стояли мятежники. Именно Марван выступал противником уступок требованиям мятежников. Уступи им, заявлял он, все провинции восстанут. С удивительным лицемерием он настаивал на том. чтобы Осман не менял свой курс, не поддавался угрозам, какими бы неверными были эти шаги. “Противоправно действовать в данной ситуации лучше, чем уступать под воздействием страха, — набожно рассуждал Марван, ибо за каждое противоправное действие ты можешь выпросить прощение у Аллаха». И чтобы показать свои намерения, Марван выходил к мятежникам в разбитый им лагерь, испуская целые тирады, казалось, только для того, чтобы провоцировать их на ответные действия. «Что тут случилось, словно собрались на дележ добычи? — закричал Марван. — Да будут ваши лица обезображены! Вы явились, чтобы вырвать имущество наше из рук. Убирайтесь прочь! Клянусь Аллахом, если это то, чего вы хотите, итоги не обрадуют вас. Вернитесь туда, откуда явились, ибо вам не лишать нас имущества».
Заслуга Али заключалась в том, что мятежники изгнали Марвана не стрелами, а лишь проклятиями. Но эта сдержанность не могла быть постоянной, Али это знал. Он смог предупредить Османа. Марван перечеркивал все планы Али как посредника, и как Али сказал Осману, он ничего не сможет сделать, если Осман не обуздает своего двоюродного брата. Но Халиф словно ничего не слышал, даже когда его любимая жена Наила выступила в поддержку Али и пыталась заставить своего благоверного усмотреть всю опасность советов Марвана. Верил ли Осман своим родственникам, или то было проявлением старческого маразма, никто не знал. И вряд ли это имело значение на тот самый момент.
Когда спустя три дня Осман явился на пятничную молитву в мечеть, его встретили насмешками и свистом. Один достопочтенных старейшин общины принес с собой бутафорию, чтобы привлечь внимание собравшихся. «Послушай, — крикнул он Осману, — мы привели к тебе старую верблюдицу, полосатую шерстяную тунику и стальной воротник. Спускайся вниз, и мы обернем тебя в эту тунику, поставим на тебя этот воротники поместим на верблюда. мы отведем тебя к Горе дыма (там на этой горе располагалась главная мусорная свалка Медины) и оставим тебя там тлеющим и разлагающимся мусором». Услышав эти слова, толпа начала бросать гальку на кафедру, где стоял Халиф. Собравшиеся целились в Халифа, и Халиф под градом этих камушков пал без сознания.
В самой мечети Халифа побили камнями до бессознательного состояния! Да, несомненно, порождалось полномасштабное восстание, и казалось, Марван был прав, необходимы были самые жестокие репрессивные меры. Но даже после восстановления Осман все еще отказывался от применения силы. какими бы не были его грехи, он считал себя набожным мусульманином, которому запрещено проливать кровь других мусульман. Но с той же настоятельностью он не отказывался от престола: «Я не могу снять одеяния, в которые меня облачил Великий Аллах». И этим своим решением он подписал себе смертный приговор.
Вопрос заключался в том, кто ему подпишет этот приговор. Этот приговор существовал. Он был в форме известного доныне Тайного письма, которое дожидало своего часа раскрытия. а раскрыли его тогда, когда, казалось, что кризис прошел, а конфликт предотвращен.
После этого случая мечети, когда Халифа забросали камнями, Осман был поистине потрясен и обуздан, он выражал свое глубокое сожаление, что дал событиям столь неприглядный ход. Теперь, наконец, он признал справедливость требований повстанцев и пообещал снять со своих постов двух правителей — своего двоюродного брата Валида в Куфе и шурина, правителя Фустата, он также обещал назначить приемного сына Али Мухаммеда Абу Бакра новым правителем в Египте. Никто не сомневался в искренности этих намерений, тем более, что Али в этом случае оставался бы залогом правления Османа.
Если бы можно было услышать вздох облегчения, то это был вздох жителей Медины. Кризис был предотвращен, справедливость восторжествовала. как и обещал Али, повстанцы сняли осаду со стен Медины и удалились. Все было бы хорошо, если по истечении третьего дня юный Абу Бакр и его воины не заметили бы гонца, скакавшего позади них, и намеревавшего обогнать воинов. Они остановили гонца, допросили его, и когда узнали, что гонец — от Халифа, начали обыскивать его. В сумках гонца обнаружили тяжелую латунную чернильницу, наподобие той, которой пользовались писари, с порошками для чернил и смесительными баночками на твердом основании, а также отсеки для пергаментов, перьев, ножиков и пломб. Один из этих отсеков служил тайником. Они вскрыли его и нашли внутри тайное письмо с личной печатью Османа, которое было адресовано шурину Османа, правителю Египта, которого он, собственно говоря, собирался сместить.
В письме повелевали арестовать мятежников, вырвать им бороды и головы, выхолощенная форма наказания, нечего сказать, ведь столько мужской гордости вмещалась в эти шевелюры и бороды, и вырвать по сто ресниц. И если после этих приемов кто-то останется в живых, их следовало бы заточить в темницу.
Чего уж более? С письменными доказательствами двурушничества они вновь повернули на Медину. Теперь они не стали разбивать лагерь у стен города, они просто окружили дворец Халифа и взяли его в осаду.
Печать на письме явно принадлежала Осману. Он сам признал, когда увидел печать. Но само письмо? Он клялся, что не знал о нем. Никто не знал на все сто процентов, было ли это правдой или правдоподобной отмазкой. Одни были убеждены, что Халиф лжет. Другие видели почерк Марвана в этом, даже в буквальном смысле, заявив, что почерк в письме принадлежит Марвану. Другие отмечали никчемность вопросов, связанных с почерком, если на письме стола печать Халифа. И если печать может быть использована без ведома Халифа, то какой прок от этого Халифа. Пошли слухи, что Али сделал все для отправки и обнаружения этого письма, дабы ускорить падение Османа, но как отметил Али, эти слухи насаждались самим Марваном. Под эту историю можно было подвести бесчисленное множество теорий заговора. Но явным было лишь одно: это письмо стало началом конца Османа.
Повстанцы не намеревались убивать, по меньшей мере вначале, иначе они не стали бы осаждать дворец, а взяли бы его штурмом. Лишь немногие призывали к открытому джихаду, и даже эти немногие не имели намерения стать основателем длинной череды покушений, которыми будет пестрить история Ислама и которые продолжаются по сей день. Людей хватала оторопь при одной мысли убийства мусульманина мусульманином, что говорить об убийстве Халифа. Все, чего хотели повстанцы, так это отречения Османа от престола. Для переговоров не было больше места. Али старался изо всех сил, но как гарант соглашения, преданного тайным письмом, его обманули, как и обманули мятежников. Он скорей всего видел ростки насилия. Али отправил своих сыновей Хасана и Хусейна, к тому времени уже мужчин, переваливших третий десяток лет, чтобы те стояли на страже Халифского дворца, но, зная упрямство Османа, Али, конечно же, понимал, что он бессилен предотвратить это бедствие. Предстоящие дни Али провел в молитвах в мечети.
Аиша, должно быть, хотела сделать то же самое, но по своему, и сделала это. Может быть, она сыграла в возбуждении чувств против этого старого маразматика не столь публичную роль, но она никогда не думала, что дело зайдет так далеко. Она воспользовалась сандалией Мухаммеда, чтобы привести Османа в чувство, а теперь, казалось,он эти чувства вовсе потерял. Могла ли она предусмотреть появление тайного письма? Что же сподвигло ее занять сторону Али? Что ей было делать, когда ее сводный брат осаждал дворец Османа? Что было ей делать, когда она не могла с одной стороны защитить своего брата, а с другой стороны — защитить Халифа? Весь этот круговорот противоречий захлестнул ее, и как только события достигли своей кульминации, она нашла выход из сложившейся ситуации. Она объявила, что уезжает на паломничество в Мекку, причем не в хадж, а в умру (малое паломничество), которое можно было совершить в любое время года, кроме, разумеется, периода хаджа.
Когда Марван услышал о планах Аиши, он понял, дело — труба. Уход Аиши со счены в столь опасный период развязывало руки повстанцам, они поняли, что любимая жена Мухаммеда не будет более стоять на их пути. Вот оно молчаливое, но очень сильное благословение позиции мятежников. Марван под покровом ночи выскользнул из дворца и направился к ней. Она не может покинуть этот город. Она посодействовала возникновению этой ситуации с помощью своих огненных воззваний, а теперь она обязана была остаться и помочь решить сложившуюся проблему. Если Осман презирал Аишу за то, что она стала укрытием для повстанцев и мерзавцев из Ирака, то Осман не прав. Он нуждается в ее влиянии, чтобы события не выходили из-под контроля. Но эти действия оказались крайне незначительными и крайне запоздалыми. Если бы правая рука Халифа появился бы перед ней всего лишь несколько недель тому назад, возможно. она нашла бы в себе силы разрулить ситуацию. Она, наверное, насмехалась бы над ним, над его столь внезапно возникшим чувством уважения к матери правоверных, и, наверняка бы, нашла путь обернуть ход событий в свою пользу. Но поезд ушел, и пользы больше не осталось.
«Ты убегаешь в тот момент. когда страна вокруг тебя пылает в огне, напоследок бросил Марван, но Аиша его не слушала. «Надеюсь, что по воле Аллаха, ты и твой двоюродный брат, который доверяет тебе все свои дела, получат камень на шею, вот тогда я вас обоих брошу в глубины моря». Сказав это, она уехала в Мекку.
Конец Осману был возвещен простым слухом: что, мол, правитель Сирии послал подкрепление Халифу, которые спасут осажденный дворец. Но подкрепление не прибыло, никто не знал, а получал ли правитель Сирии приказ отправить войско. Или если он его получал, то по каким-то причинам, стало быть, игнорировал его. по любому, какое это имело значение! Сам слух наводил на какие-то мысли, cлух, как и во все времена, сделал свое дело!
Первая смерть не заставила себя долго ждать. Пал один из самых почтенных, ранних соратников Мухамммеда. Прихрамывая, этот человек, вышел в первые ряды и, балансируя на костылях, призвал Османа выйти на балкон и объявить о своем отречении. Тут же вышел один из приспешников Марвана и бросил большой камень на седовласого старца. Камень попал в голову старца и он был сражен им наповал. «Клянусь Аллахом, именно я поджег войну», бахвалился этот приспешник позже. Никто так и не узнает, действовал ли он по приказу Марвана или проявил собственную инициативу.
Этот день надо было назвать Днем Дворца. Но столкновение длилось недолго, не более часа. Число нападавших преобладало над числом защищающих Халифа. Марван и сын Али Хасан были ранены. Другие бежали. Небольшая группа повстанцев во главе с Мухаммадом Абу Бакром поднялись на верх и ворвались в частные покои Халифа. В покоях их было двое: Осман и его любимая жена сирийка Наиля.
Дряхлый Халиф сидел на полу и читал пергаментную рукопись Корана. Он посвятил свою жизнь тому, что собирал Коран. Даже когда воины приблизились к нему, он продолжал читать Коран, словно эта Священная Книга могла его спасти и защитить его от посягательства простых смертных. Может быть, именно это и разозлило молодого Абу Бакра. а именно чувство неуязвимости Османа, когда последний был столь уязвим. А, может быть, насилие власти было столь долгим, что ответный удар был просто неизбежен.
Абу Бакр нанес удар первым. Сын первого Халифа был первым в убийстве третьего Халифа. Кинжал Абу Бакра разрезал лоб Османа. Первые капли крови стали призывом другим мятежникам. Осман упал на спину, и другие повстанцы стали наносить удары своими кинжалами. Кровь третьего Халифа брызнула на стены, на ковер, на страницы Корана, неизгладимый образец осквернения, который по сей день давит на мусульманский верующих, как на суннитов, так и на шиитов. Они продолжали наносить удары кинжалами в уже бездыханное тело Османа.
Наиля бросилась на тело мертвого мужа. Она молила убийц не осквернять труп ее благоверного, и только ради того, чтобы смешать кровь своего мужа и свою кровь, она ударом кинжала отсекла себе руку. Ее крик словно отражался от забрызганных кровью стен, чтобы проникнуть в совесть нападавших, и только в этот момент мятежники остановились.
Да, Мухаммед Абу Бакр первым нанес удар, но он был не смертелен. ья же рука нанесла смертельный удар? Ответ на этот вопрос не известен. Но вопрос заключался не в ом, кто нанес смертельный удар по Осману, а в том, чья рука руководила этим ударом. Кто стоял за этим убийством? Или зададим этот вопрос по-другому, кто не стоял за этим убийством? Один из Омеййядов позднее скажет, что «Осман был убит кинжаломЮ кованным Аишей, обточенным Тальхой и отравленным Али». Другие скажут, что именно Марван выковал и отравил тот кинжал. Но найдутся и такие, которые заметят, что весь этот заговор был составлен вдалеке от Медины, что его автором явился Муавиййя, могущественный правитель Сирии, чье подкрепление так и не прибыло на помощь Осману.
Все, что можно точно в данном случае сказать, что третий Халиф Исламской империи был убит лицами, как известными, так и неизвестными, с добрыми и неблаговидными намерениям.
Окровавленной, разорванной рубахе Османа,в которой он, собственно говоря, и встретил свою смерть, судьба отвела в отличии от владельца довольно долгую жизнь. Кто-то из участников, история не сохранила его имя, человек довольно прозорливый, взял эту рубаху, обернул ею пальца и останки кисти Наили. Наутро, когда вся Медина бурлила новостями об избрании Халифом Али, небольшой караван отправился в семисотмильный поход в Дамаск, и в одной из верблюжьих бурдюков лежала та самая рубаха вместе с окровавленными перстами.
Кто выслал этот караван, сирийка Наиля, может быть, Марван, а, может быть, Умм Хабиба, единственная из вдов Мухаммеда, которая была из рода Омеейядов, и сестрой Муавиййи. Какими бы не были намерения, прочерчивалась ясная цель. Эти ужасные реликвии послужили бы мощным призывом мстить. Когда караван прибыл в Дамаск, Муавиййя повелел взять эту рубаху и пальцы и хранить их в главной мечети Дамаска. Ровно год они хранились там.
как сообщал сирийский историк, каждый день эту рубаху выносили на кафедру. Иногда пальцы прикрывали. а порой рубаху клали на кафедру, а пальцы Наили прикрепляли к манжетам рубахи — два пальца с суставами и часть ладони, два пальца, отрезанных до основания и половина большого пальца. Люди заходили в мечеть и слезились, воины поклялись , что не притронутся к женщинам, не войдут в ложе, пока не отомстят убийцам Османа и тем, кто остановит их на этом пути».
В Медине Османа похоронили быстро и тихо. Его не стали хоронить там, где покоились тела Мухаммеда, Абу Бакра и Омара, то бишь в комнатенке Аиши, а похоронили на главном кладбище Медины. Если кто и держал траур, то только в частном порядке. а в основном вся Медина просто ликовала. Повстанцы обернулись к Али, ка кк своему новому лидеру. Да и никого более не было вокруг. Али, которого все желали видеть руководителем общины, всегда был наследником Мухаммед, и наконец, пришел к этому наследию. Конечно же, его восхождение на этот святой престол становился более слащавым именно из-за долгого срока ожидания.
16 июня 656 года они заполнили мечеть, двор мечети, и принесли обет верности ему. Казалось, пыли и шипам приходит конец, и не только это казалось Али, но и всем тем, кто окружал его.
Откуда было знать им, что не так-то легко будет удалить пыль и убрать шипы? они и не думали, что Али будет суждено править только пять лет. Но сейчас они радуются, рукоплескают Повелителю правоверных, ибо Али отказался брать титул Халифа. Этот титул был достойно пронесен Абу Бакром и Омаром, отметил Али, но погряз в грязи Омеййядов. Али будет известен как Имам, что в переводе с арабского означает «стоящий впереди». С одной стороны это был скромнейший титул, и его давали человеку, ведущему повседневные молитвы общины. С другой стороны Имам начинался с заглавной буквы «И» и являлся политическим и духовным лидером всех мусульман. Между Халифом и Имамом располагался огромный мир политики и богословия.
Али было суждено стать единственным человеком, которого признавали и признают сунниты и шииты правоверным лидером Ислама. И если сунниты признают его четвертым Халифом — четвертым и последним из рашидун (правоверных), то шииты вообще не признают Халифат, даже его трех первых представителей. для шиитов Али был и остается первым правоверным преемником Мухаммеда, назначенного им в качестве истинного духовного лидера мусульман, который передал свои знания и проницательность сыновьям, чтобы те, в свою очередь, тоже могли передать все эти богатства своим потомкам. Али, первый из двенадцати Имамов, вместе с Мухаммедом и Фатимой составят истинный Ахль Аль-Бейт.
И в этот июньский день, когда вся Медина выстроилась в длиннющую очередь, чтобы выразить свою преданность Али, никто еще не знал о суннитах и шиитах. Они подходили к Али, касались с ним своими предплечьями, клялись перед Богом в преданности, заявляли, что отныне друг Али, это их друг, а противник Али, это их враг, и считали, что все — разделению пришел конец. Али вновь объединит Ислам под своим знаменем. Не будет больше жадности, не будет больше высокомерия, не будет больше коррупции. Оплот Омеййядов дал трещину и надорвался, наступала новая эра. Под руководством Али мусульмане возвратятся на истинный путь Пророка.
И если на одной стороне люди праздновали победу, били барабаны, дети танцевали, а женщины плакали от радости, то на другой стороне кровавая рубаха и отрезанные пальцы украшали кафедру мечети в Дамаске. И не будем сбрасывать со счетов Аишу, которая в Мекке строила очередные свои козни.
Глава 8
В тот миг, когда Аиша услышала лай собак, она начала понимать, что случилось что-то неладное. Сам лай собак в пустыне – дело привычное, она его слышала помногу раз, ровно так же «воют» совы в пустынной ночи, словно блуждающие по пустыне в поисках пищи волки, гиены и шакалы. Нет, не лай собак беспокоил ее, а местность, где он раздавался. Ведь именно об этой местности предупреждал ее покойный муж, пророк Мухаммед.
Отряд Аиши медленно вступал в небольшой оазис, расположенный на полпути между Меккой и отдаленными низменностями Ирака. Вначале местность эта ей показалась гостеприимной, но внезапно раздавшийся лай заставил ее вздрогнуть: «Что это за местность?» — спросила она свиту. «Воды Хаваба», — ответили ей. Тихий ужас обуял ее.
«Инна лиллахи уа инна илейхи раджиун!» (Воистину, мы принадлежим Аллаху и, воистину, мы к Нему вернемся!) — произнесла Аиша, словно перед ликом смерти. Спутники Аиши с тревогой посмотрели на нее. «Что же здесь непонятного?» — спросила она. – «Эти собаки лают на меня. Я слышала, как однажды Пророк мрачно спросил своих жен: О как бы я хотел знать ту из вас, кого залают псы Хаваба?» Отвезите меня назад! Отвезите меня назад!»
Что же случилось с Аишей? Что так затронуло эту женщину? Казалось, впервые за многие месяцы червь сомнения пролез в ее разум и словно парализовал ее.
Когда ее настигла весть об убийстве Османа, о роли ее сводного барат в этом злодеянии и, что самое худшее, об избрании халифом Али, она пребывала в Мекке. Ну и что, что она называла Османа «старым маразматиком»! Ну и что, что она размахивала перед ним сандалией Мухаммеда и во всеуслышание обвиняла его в предательстве сунны. Ну и что, что ее же письма лишь подливали масла в огонь, и что одним из самых сокровенных ее желаний было утопить Османа в море, подвесив к его ногам огромный камень. Разумеется, все это были лишь слова, но не намерения. Она, конечно же, не хотела этого убийства, и уж тем более не хотела видеть Али в качестве нового халифа.
Смесь ярости и потрясения привели ее прямо в центр Мекки, к великой мечети, к самому святилищу Каабе. Здесь она стала рядом с черным камнем, расположенным в одном из углов Каабы, и возвысила свой громкий, пронзительный, ясный голос всем, кто мог ее услышать, голос подстрекательницы, якобы выступающей за восстановление справедливости.
«О люди Мекки! — заявила она. – Эта банда, шушера из гарнизонных городов, вместе с хамами-бедуинами и инородными рабами составили заговор. Они пролили запретную кровь, нарушили святость Мекки, совершили отвратительное убийство! Они перешли все границы!»
Одобрительные возгласы мекканцев лишь усилили в ней запал мести: «Клянусь Аллахом! Весь этот мир не стоит и мизинца Османа! Мстите за смерть Османа, и вы сим лишь укрепите ислам!».
В ответ толпа взревела еще громче и начала скандировать: «Месть за Османа!». Если бы Мать правоверных попросила бы приговорить своего сводного брата за это преступление, клянусь Аллахом, они бы и в этом поддержали ее. Если бы она поставила справедливость в центр, над родственными отношениями, а праведность — над кровными узами, то клянусь Аллахом, они и это бы поддержали! Во имя Мухаммеда, во имя ислама они рвались в бой, чтобы отомстить за сына Мекки, поверженного повстанцами Медины.
Аиша никогда не задавалась вопросом о мотивах своих действий. Сейчас, когда она была на гребне своего ораторского мастерства, никто задавался вопросом о вине самой Аиши в этом деле – почему она покинула Медину, почему она оставила Османа лицом к лицу со злым роком, или причиной нынешней ярости был просто Али, человек, которого она ненавидела больше всех, человек, которого провозгласили четвертым халифом. Мутные воды Хаваба задавались этими вопросами – повернуть назад было уже поздно. Да и толпа ее подстегивала, и на фоне этой опьяняющей спешки Аиша могла ощутить себя поистине праведной.
Смерть Османа прибавила ему величие и благородство, в отсутствии которых его многие обвиняли при жизни. Убийство Османа – это дело рук Али, заключили мекканцы. Али прекрасно знает всех убийц Османа, утверждали они, и он отказывается передать их в руки правосудия. Он укрывает убийц, а это значит, что он сам — убийца. Кто знает, может и Али приложился к Осману, поговаривали вокруг. При этом никто не говорил о пронырливом Марване, который бежал в Мекку, был там встречен как герой, ибо там и тут демонстрировал свои ранения в ходе обороны дворца Османа. «Если ты, Али, и не убивал в открытую, — заявил Марван, — то совершил ты это втайне».
Поэты мгновенно ухватились за эти изюминки и стали раскручивать их в спирали своего мастерства: «Твои родичи, Али, убили Османа, посягательство на эту кровь не является халалом, — изрек один из поэтов, — это не по исламским законам. Али должен нам выплатить и выплатит сполна».
К тому времени в Мекку доставили послание Али, где он требовал, чтобы город принес ему присягу верности. Послание было зачитано вслух, но сила негодования толпы была столь высокой, что аж кобылы в стойлах зашевелились. Толпа бесновалась. А один юнец из рода Омеййядов прямо-таки вырвал послание из рук гонца, разжевал его и выплюнул оземь.
Стремление Аиши мстить овладевало сердцами мекканцам, но опасность реализации этих стремлений стала появляться с прибытием Тальхи и Зубейра, зятьев Аиши, которые сбежали из Медины, чтобы поддержать свояченицу. Тальха и Зубейр принимали участие в выборе Османа. Тогда они оба голосовали против Али, что и стало причиной выбора Османа. Выбрав его своим халифом, Тальха и Зубейр не раз подвергали режим Османа жесточайшей критике. Но вместе с тем они ни в коей мере не хотели видеть халифом Али. Тальха и Зубейр были людьми амбициозными, они, хоть и в одиночку, но рвались к власти. Эта одержимость идеей возглавить власть и заставила их объединиться.
Что с того, что они несколько недель тому назад, перед побегом в Мекку, поклялись в верности Али? Теперь же они клялись мекканцам приговаривая, что эти злосчастные мятежники под силой их заставили дать обет верности Али. «Нас просто вынудили поклясться в верности, — заявили они. — Мы принесли присягу «с высохшей рукой» — куда уж до жесткого рукопожатия ладонью в ладонь, предплечьем в предплечье, — вынужденное рукопожатие расходилось со словами обета верности. Мекканцам все становилось очевидным. «Добром это не кончится», пробормотали собравшиеся, и когда присяга была принесена, услышали слова Тальхи: «Мы получили собаку, сующую свой нос в навоз».
Ни Тальха, ни Зубейр не имели никаких оснований стать халифом. Оба нуждались в поддержке своей свояченицы, и особенно сейчас, когда вся Мекка была в ее руках. Именно с помощью Аиши Тальха и Зубейр нацелились силой сместить Али. Кто из них потом станет халифом – этот вопрос был открытый для них и решить его, посчитали они, лучше будет потом. На этом же этапе они решили действовать совместно. С помощью физического присутствия и влияния Аиши они смогут пойти войной на Али и победить его, нет, не в Медине, где Али был слишком силен, а в восьмиста милях от Медины, в Ираке, где у Зубейра были сторонники на юге, в приграничной Басре. Нет, подумали они, под предводительством Аиши им не проиграть. «Ты поднимешь басрийцев так же, как мекканцев», — убеждали они Аишу.
Аишу не трудно было переубедить. Она ничего хорошего от этого не ждала, еще меньше она ожидала от Али, но с любым из своих зятьев в ранге халифа она могла взять в руки власть и стать в ее центре. И вновь она устремилась к Каабе и пустилась в яростную риторику. «Мы придем к нашим братьям в Басре и свергнем Али! — воскликнула она. – Вперед, в Басру!».
И вот сейчас, на полпути в Басру, ее встревожил лай собак, причиной которого была она сама. Прошли те романтические грезы, которыми она тешилась в пустыне до случая с ожерельем. Тогда она была подростком, все вызывало в ней волнение; сейчас она была на четвертом десятке, во главе многотысячного войска, и вот впервые в ней словно растворился дух решительности.
Надо ли ей было вести этих людей в бой? Конечно, еще не пришло время для таких действий. Она планировала захватить Басру без боя, малочисленной силой, затем двинуться к Евфрату вместе с басрийцами, а потом дойти до Куфы. Когда она овладеет всем Ираком, они объединят свои силы с Муавией, правителем Сирии, войско которого уготовилось отомстить за смерть Османа, взирая на его окровавленную рубаху и не менее окровавленные отрезанные пальцы Наили. Против этой сильной коалиции Али ничего не поделает, размышляла она, ему придется отступить, как это он трижды делал доселе. План был таков. Но почему вдруг залаяли собаки?
Двадцать четыре часа просидела Аиша у вод Хаваба, застывшая под ощущением предвидения. Тальха и Зубейр пытались вразумить ее, но безуспешно. Собаки просто лают, настаивали они, но она только засмеялась. Ты слишком суеверна, продолжали те, а это запрещено исламом, но она ни в какую не хотела двигаться. Они пытались соврать. Это не Хаваб! Тогда, вообще, речь шла о другой местности. Но собаки продолжали лаять, и она в точности знала эту местность. Знала и то, что эти двое не вправе были возражать тому, что было высказано Пророком. Если они и мужья моих сестер, им доверять нельзя. Разве не они принесли присягу Али? Оба показали себя клятвопреступниками.
Почему же тогда Аиша не стала остерегаться собак Хаваба? Почему она не настояла на отступлении, а продолжила поход на Басру? Может быть, лаянье собак было не столь громким, может быть их лай только казался зловещим. Но оценка своих действий с оглядкой в прошлое было сильной стороной Аиши, и благодаря Али она проживет достаточно долгую жизнь, чтобы стать такой сильной.
Вообще-то, Али всегда был против наказания убийц Османа. Эти убийцы и стали первыми, принесшими присягу Халифу, а предводитель убийц был его приемным сыном. Поэтому с одной стороны Али не одобрял этого убийства, а с другой стороны не стал и проклинать ее. «Я не могу сказать, что Османа убили справедливо или несправедливо, — говорил он, — ибо он сам был несправедлив».Это заявление подчеркивало то, что Али одобрял убийство. Если Осман был несправедлив, если он предавал сунну, как это считал Али, и противоречил закону и духу Ислама, то убийцы действовали верно. Хотя Али не решался называть Османа вероотступником, его довод был ясен; если убит вероотступник, никакого наказания не требуется.
Взамен возмездия он призвал к примирению. Месть – это не путь вперед, заявил Али. Исламу надо смотреть в будущее, а не в прошлое. Вот почему он принял присяги Тальхи и Зубейра, были ли их руки высохшими или нет. Вот почему он все еще посылал послания, а не войско в Мекку и Дамаск, требуя верности себе, а не принуждая к этому. Все, кто назовет этот поступок Али как желание избежать конфликта во что бы то ни стало, как позицию слабости, а не силы, серьезно ошибется.
Если Али и надеялся на избежание кровопролития, то было уже поздно. Когда до него дошли вести, что мекканцы идут на Басру под предводительством Аиши и ее зятьев, у него не оставалось другого выхода, как выйти из Медины с войском и направиться в Басру, ведь надо было остановить продвижение мекканцев. Но даже, отправившись в путь, он так и не смог предотвратить насилия, оно началось без его вмешательства.
Аиша и ее зятья просчитались. В Басре они столкнулись со страшной головоломкой. Горожане были против того, чтобы на них кто-то со стороны давил. Басрийцы уважали Аишу как ведущую Мать правоверных, признавали правомерность ее требований наказать убийц Османа. Но они уважали, и порой даже больше, Али. Он сменил погрязшего во взятках правителя Басры, которого назначил в свое время Осман. Нынешний правитель был человеком чести, преданным нормам Ислама, и был популярен среди басрийцев. Поэтому мекканцев встретили отнюдь не с радушием, не с раскрытыми объятиями, как те того ожидали. В действительности, их вовсе не приветствовали. Правитель потребовал, чтобы они разбили лагерь за стенами города. «Пусть прибудет Али, — заявил правитель. А этого больше всего не хотелось Аише и ее зятьям.
В ту ночь, «в холодную, темную, ветреную и дождливую ночь» согласно летописи, Тальха и Зубейр повели мекканцев в бой. Они ворвались в город и истребили десятки людей, собравшихся в мечети. К рассвету они захватили казну и житный склад, где правитель, назначенный Али, сопротивлялся им: «Клянусь Аллахом, если бы у меня было достаточно людей, я бы не успокоился до тех пор, пока не убил бы вас всех за тех, кого вы убили, — сказал он им. — Вы умертвили наших басрийских братьев, и ваша кровь стала халал – разрешенной – для нас. Как можно считать пролитие крови мусульман правомерным? Разве те, кого вы умертвили этой ночью, убивали Османа? В чем их вина? Вы не боитесь гнева Аллаха?». Против такого большого войска правитель был бессилен. Его схватили, связали, унизили тем, что вырвали с корнем волосы и бороду, и бросили в темницу. Вся Басра притаилась: что же будет, когда в город вступит Али.
Конники быстро сообщили Али, что город взят, правитель унижен, есть убитые. Али был раздосадован. Тальха и Зубейр не испугались гнева Аллаха. «О Аллах, не дай свершиться тому, что совершили они, и покажи им их Свой гнев», — воскликнул Али. – Избавь меня от убийства мусульман, от того, что ими было сделано, и избавь нас от таких людей, как они». Он был как идеалистом, так и реально воспринимал окружающий его мир. И даже когда Али молился за мир, он готовился к войне.
Он послал своих сыновей Хасана и Хусейна в Куфу с просьбой о подкреплении. Уже через неделю к нему прибыло подкрепление в несколько тысяч воинов. Итак, у стен Басры, на равнине стояли два войска примерно в десять тысяч каждое. Они простояли там в течение трех дней. Одно войско возглавлял Али, другое – Аиша и ее зятья.
Может быть, демонстрация военной силы удержит мекканцев? Али, очевидно, надеялся на это. Но когда он обратился с речью к своему войску, слова его оказались очень уж похожими на слова Пророка. «Мое намерение – исправить все, — воззвал Али к своим воинам, — чтобы община возвратилась к своим братьям. Если мекканцы принесут нам присягу, то настанет мир. Но если будут драться, это будет раскол, который невозможно будет исправить. Поэтому, о люди мои, держите себя в руках. Помните, что эти люди напротив – ваши братья. Будьте терпеливы. Остерегайтесь бросаться на все без руководства, ибо если вы победите в споре сегодня, то можете проиграть его завтра».
Казалось настает ночной кошмар – то, чего больше всего боялись арабы, и то, которого на сей раз было просто не избежать, называлось простым арабским словом: фитна.
Арабский язык очень изящен и гибок. Как и все языки семитской группы, он построен на игре со словами. Принимая трехбуквенный корень (корень из трех согласных букв), в этом языке создается то, что порой кажется бесконечным числом значений и смыслов. Одно и то же слово может иметь различные смыслы, в зависимости от контекста. Возможно, лучшим примером здесь служит слово «джихад», который одновременно означает внутреннее стремление прожить исламе с более высоким уровнем духовного сознания и внешнее стремление к конфронтации с теми, кого называют врагами ислама.
Изящное слово «фитна» имеет более сложное значение. Корень этого слова означает «заблуждаться». Слова, образованные из этого корня, имеют следующие значения: испытание, интрига, искушение, мятеж, разногласие, раздор. Слово «переворот» и даже «хаос» имеют такой же корень. Но самым распространенным значением слова «фитна» является гражданская война, самая гражданская из всех гражданских войн. Ибо здесь переходят в стан противника племена, кланы и даже роды, двоюродные братья, родичи со стороны супруги могут принять противоположные стороны. Братья воюют против братьев, отцы – против сыновей. Фитна – это страшенный разрыв в ткани общества, разрушение плотно сплетенной матрицы родственных отношений. Фитна не признает временных границ, она был в седьмом веке, она есть и сейчас, как самая страшная угроза единству исламу, большая, чем угроза пасть под мечами самых неистовых иноверцев.
Вернемся к этим двум войскам, стоящим друг против друга, на разделяющей их меже, на песчаной, скалистой почве, с обнаженными и готовыми к бою кинжалами и мечами, со стальными нервами, которые то и дело размышляли каждое в своем стане, а смогут ли они предаться самому страшному и последнему греху, к пролитию крови других мусульман. Произнесенное каждое слово выражали страх быть разделенным, боязнь фитны и ее последствий.
«Тальха и Зубейр присягнули и повиновались Али», — сказал один из басрийских воинов. – «А теперь они стали мятежниками, хотят мести за кровь Османа. Они нас раскололи».
«Да, — фаталистически размышлял другой. — Война неизбежна, скорей Евфрат потечет в обратную сторону. Мусульманин считает, что достаточно заявить о вере своей и этим не будут испытаний. Люди считают, что достаточно заявить о своей вере, и не думают о том, что этим не настанет конец их испытаниям».
Мекканская сторона тоже всерьез задумалась: «Вот мы находимся здесь, на этой ровной тверди с нездоровым климатом». Никто вокруг не стал спорить с уместностью высказанной метафоры, так как эти воины Хиджаза ровно таким считали южный Ирак, безбрежную равнину с ее многочисленными реками и трясинами, москитами и комарами. Здесь воздух был густ и влажен, в отличии оставленных ими живительного сухого воздуха. Здесь небо даже бледнело своей лазурью от повышенного содержания влаги во вдыхаемом воздухе. И стоило покинуть свои земли, чтобы стоять здесь, явно не к месту, просто заблудшими.
Даже сам Тальха стал сомневаться в затеянном. Он стоял в одиночестве и «хлестал бородой грудь», жест задумавшегося человека. «Мы объединились против других, – заметил он, — «но стали уподобляться двум горам из булата, каждая из гор пытается поглотить другую гору».
Находились и такие, которые в своих думах стояли посередке, не разрешаясь взять ту или другую сторону. Один из старейших соратников Мухаммеда сетовал, что «никогда ранее испытывал таких ощущений, когда не знавал, что будет делать в следующий миг, уйдет или останется». Один из вождей кочевых племен взял и оставил свою позицию и убрался со своими людьми, направившись в горы Персии. «Если вы стремитесь убить побольше людей из стана противника, то это можно сделать и без участия моих людей». – вывел он. Его прощальные слова не оставили и тени сомнения на сложившемся мнении этого вождя: «Скорей я стану кастрированным рабом, пасущим коз с искривленным выменем, чем пущу стрелу в одну из сторон». Многие из басрийцев переминались, будучи не уверены в том, какую сторону им принять. — «Ни один из тех, кто пребывал в фитне, не мог разрешить для себя эту задачу».
«Уж лучше кого-то ненавидеть, чем пребывать в ней», – отметил другой. – «Фитну можно назвать необратимым разрывом, невоссоединимым расколом».
А третьи просто склонили свои головы в трауре: «Пошатнулся краеугольный камень ислама. Смотрите, люди, как этот камень коряво покатился». Но самое сильное возвещение, которое эхом отозвалось в умах людей и заставило их призадуматься, сошло с уст Абу Мусы, старейшего соратника Мухаммеда и бывшего правителя Куфы при халифе Омаре: «Фитна словно язва разъедает общину. Ветер раздувает ее как парус, с севера, юга, востока и запада. И это будет длиться целую бесконечность. Фитна глуха, слепа, растаптывает свой недоуздок. Она сошла на вас там, где вы были в безопасности, она заставляет мудрецов озадачиться, как и неопытных юнцов. Тот, кто спит с фитной, счастливец по сравнению с теми, кто бодрствует с ней. Тот, кто бодрствует в нее, счастливец, по сравнению с теми, кто сейчас стоит супротив друг друга с ней. Тот, кто стоит с ней, счастливец, по сравнению с теми, кто пойдет друг на друга с ней. Наберитесь мудрости, люди, вложите мечи свои в ножны! Снимите наконечники с копей, отпустите тетивы своих луков!».
То было последней надеждой, и она зависела от трех людей. По мере того как двадцать тысяч воинов наблюдали с затаенным дыханием, Али выехал и стал между двумя войсками на своем темном боевом коне. С другой стороны выехали Тальха и Зубейр, чтобы встретиться с ним. Они стояли так, что один из воинов так описал это расположение — «они были так близки друг к другу, что шеи их коней пересекались друг с другом». Верхом они начали переговоры. Внезапно раздался глас одобрения в войсках. Это Али повелел принести шатер, чтобы продолжить переговоры в тени. Переговоры длились три дня. Переговаривались все, как военачальники, так и воины. Переговаривались, соя друг против друга, заходя в стан противника, вспоминал один из мекканских воинов, и то, о чем говорили, было стремление к миру».
Лишь Аиша не принимала участия в этих переговорах, хотя ее согласие было очень нужным. Именно она вдохновила мекканскую армию пройти восемьсот милей по этой ровной, влажной тверди, именно она призывала их отомстить за смерть Османа, именно под ее воззванием собралось это войско. Надеялась ли она на мирное разрешение? Звучал ли в ее ушах голос Мухаммеда, предупреждавшего о разногласиях, или она забыла о водах Хаваба?
Если бы разразился бы бой, она не стала бы уходить с этой сцены, наоборот, она была бы в самой гуще борьбы, там, где стояло ее войско. Была ли она оцепенена предчувствием того, на что надеялась, даже против трезвого расчета, что переговоры сорвутся? Облегчилась или разочаровалась ли она, когда Али, Тальха и Зубейр вышли в конец третьего дня из шатра и дали приказ отступить? Она никогда на сей счет не выскажется. Но если эти трое не согласились бы на мир по меньшей мере войны бы не было. Они по существу согласились на все разногласия. Каждый из них поклялся разрешить противоречия, и что пути разрешения будет ненасильственными. Никто из них не станет нападать первым. Словами одного из воинов, «когда они пошли засыпать, царствовал мир. Они спали, как никогда ранее, потому что они были свободны от того, что они собирались делать, и отодвинули свои планы сражаться».
«Но пока они спали, продолжил он, — другие бодрствовали. А те, кто поднял знамя мести за Османа, и вовсе провели самую худшую ночь в своей жизни, ибо только сейчас они стали обсуждать вопрос о привлечении к ответственности. Всю ночь они были заняты обсуждением, пока не решились на внезапное наступление. Они держали это в тайне, на рассвете покинули лагерь и с появлением первых лучей пошли в наступление».
Оставалось неясным, кто же были эти «смельчаки». Те самые люди Марвана, как это они сделали в день убийства Османа? Действовали они под приказом Аиши, оставшейся недовольной уходом Тальхи и Зубейра от прямой конфронтации? Или это были молодые горячие головы, как большинство предпочитают верить, которые рвались в бой и с пренебрежением относились к смерти? Источники, хотя и существуют, но запутаны. Достаточно было небольшой группы людей, чтобы привести в движение эти войска. Группы в три или четыре человека могли запросто начать этот бой.
Через затхлый утренний воздух пронесся лязг мечей, раздались проклятия и стоны, и в одно мгновение тысячи людей сошлись в непримиримом бою. В ужасе и отчаянии этого сражения не было времени для вопросов. Какая разница, кто ударил первым, тут надо было защищать свою жизнь.
Может быть, достаточно отметить, что эти огромные войска сошлись лицом к лицу в бою, что открытое сражение было единственно возможным решением в этом случае. Однозначно, что на этот раз никто не стал бы присваивать себе зачинщика сражения, зачинщика гибели тысяч людей в это октябрьское утро 656 г. н.э.
Вот так зародилась война, с первого боя, которого, казалось, никто не хотел, который можно было избежать. Но она зародилась и продолжается по сей день, и, вот парадокс, на том же самом месте, в том самом пресловутом Ираке.
Глава 9
Воины ревели от восторга при виде Аиши, которая на верблюде вступала на поле рати. Она восседала на рыжем, породистом, проворном и сильном верблюде. Тент на горбу верблюда был покрыт не муслином, как обычно, а кольчугой, а поверх последней красным шелком.
Паланкин на горбу верблюда возвышался над войском. Знамя можно было не увидеть, но паланкин Аиши видели все, и пешие, и всадники, и он, можно сказать, объединял и вдохновлял сторонников самой известной, языкастой и любимой из жен Пророка, на коленях которой он отдал Богу душу. Да, она была отнюдь не пассивным наблюдателем военных баталий, она была в самой гуще событий, среди своих защитников. Под предводительством матери правоверных они были готовы идти на все.
Через щели в кольчуге Аиша взирала на ратное поле. Она могла узреть все тонкости сражения, тех воинов, которые рвались смело на противника, и тех, кого поджимали ратники Али, куда нужно было направить подкрепления, а где и вовсе приказать наступать. Ее приказы в мгновение ока доставлялись предводителю кавалерии Тальхе и Зубейру, возглавившему пеших воинов.
Через этот веющийся на ветру кроваво-красный шелк раздавался пронзающий ранний утренний воздух женский глас, леденящий окружающих своей невидимостью: «Клянусь Аллахом, вы – герои, вы – мои горы!» — «Так покажите им доблесть, сыновья мои! – призывала она. — Покажите этим трусливым убийцам то, что вы делаете лучше всех! Да пожалеют они о том дне, когда родились! Да будут обездолены родившие их матери!»
Над этим полем часто раздавались призывы «Смерть убийцам Османа! Смерть пособникам убийства! Отомстите за Османа!».
Надо сказать, что у арабов подобного рода явлений не являются чем-то необычным. Однако, женщины, осыпающие проклятиями своих врагов, как правило, отсиживались в тылу, за спинами воинов, и голосили в насмешку над противником, подстегивая своих противников и призывая их показать всю свою доблесть. Визгливые крики женщин должны были вселить страх в сердца противника, обуять его ужасом, страхом, намного большим, чем жуткие звуки волынок в другой части мира. Их проклятия и призывы воодушевляли воинов, уничтожали в них панический страх перед смертью, заглушали звуки налетающих друг на друга воинов, звон стали, рык воинов, схватившихся в смертельном поединке, ужасный звук стали, вонзающейся в плоть, стоны раненных и умирающих на поле брани.
Подобной женщиной была Хинд, женщина, призвавшая к кровной мести. Именно этой женщине из аристократического рода Мекки принадлежала немаловажная роль в первом из главных сражений между мекканцами и мединцами. Муж Хинд повел мекканцев на последователей Мухаммеда. Одно только ее имя наводило ужас на людей. В первом сражении отец Хинд был убит. Она прекрасно знала, что отца убил в бою дядя Мухаммеда Хамза. И уже во втором сражении между мекканцами и мединцами воинов из Мекки вела в бой сама Хинд под свои песнопения, которые наводили страх на людей Мухаммеда и вдохновляла мекканцев на атаку. Хинд была охвачена жаждой мести. Она объявила о вознаграждении за голову Хамзы. После завершения сражения она рыскала на поле рати, переворачивала одно за другим тела убиенных, чтобы найти то возжеланное тело.
Она нашла его, а найдя издала такой клич победы, что спустя годы этот клич наводил страх на тех, кто просто слышал о Хинд. Она стояла на коленях и перед ней лежало бездыханное тело Хамзы. Она взяла нож обеими руками и вонзила его глубоко в тело Хамзы. Разрезав плоть она начала искать, нет, не сердце, а нечто большее, гораздо кровавее, печень. В эйфории мести она держала дымящую печень высоко над головой, а затем, на виду у всех вонзила в печень свои белоснежные зубы, раздирая и выплевывая кусками оземь, втаптывая куски печени в пыль земли.
Кто мог забыть ту кровь, стекающая с уст Хинд на подбородок и руки, кто мог забыть ее яростно сверкающие от исполненной мести очи? Зрелище было настоль впечатляющим, что люди стали называть сына Хинд, то ли из-за восхищения, то ли с какой-то долей насмешки, сыном едока печени. Его так не называли в лицо, ведь сыном был не кто иной, как Муавийа, могущественный правитель Сирии. С ним, как и с его матерью, шутки были плохи.
Но упоминая о Хинд, следует заметить, что даже она не проникая в гущу битвы, оставалась в тылу. Она была еще той аристократкой, чтобы позволить себе это. Это поведение, а именно вступать на ратное поле, больше относилось к женщинам кочевых племен, скажем, к женщинам подобно легендарной Умм Симл, которая повела свое племя в ожесточенный бой с войском Абу Бекра во время войн с вероотступниками. Поэты воспевали отвагу этой женщины в посвященных романтике пустыни длинных одах и стихотворениях. Они восхваляли ее священный белый боевой верблюд, абсолютное бесстрашие и преданность, которыми она вдохновляла своих подопечных до самой своей смерти. Но Умм Симл не была мусульманкой, по мнению Абу Бекра, во всяком случае. Она была вероотступницей. Поэтому когда Аиша въезжала на своем рыжем верблюде в гущу сражения, то было первым случаем, когда мусульманка вела мусульман в бой. Первым и последним.
Никто не сомневался в праве Аиши вести бой таким образом, по крайней мере, в тот момент. Лишь спустя некоторое время критики стали говорить об этом. «Мы дрались за женщину, которая сочла себя Повелителем правоверных», горько заметил один из воинов. «Вместо того, чтобы тащить свои юбки дома, она галопом проскакала через пустыню, и превратила себя в мишень, чтобы заставить своих сыновей защитить себя от копий, стрел и мечей», — сказал кто-то другой. Не трудно вообразить, как эти критические высказывания превратились бы в оды ее смелости и лидерству, если бы этот бой увенчался бы ее победой, или если бы она погибла в этом сражении подобно Умм Симл. Тому и другому, однако, не суждено было случиться.
То, что Аиша лицезрела с высоты своего верблюда, было сражением, судя по мнению многих очень страшным. Прошедшие через горнило ожесточенных битв воины клялись оставшейся жизнью, что они еще не видели столь много отрубленных рук и ног. Сражение продолжалось с раннего утра до середины дня, около трех тысяч воинов, большинство из которых принадлежали войску Аиши, лежали мертвыми или умирали на поле брани.
Выжившие ведали свои истории об этом сражении, наподобие тому, как эти истории должны выглядеть. Одни выбирали стезю вдохновения, форму героических историй о самообладании воинов перед ликом смерти, к примеру, как воины брали в руки свои отрубленные конечности и пользовались ими как оружием. Ногу воина отрубало огромным по силе ударом меча противника, и воин ронял свой меч. Взамен он хватал с земли отрубленную ногу и с предсмертной силой наносил сокрушающий удар противнику, а потом от потери крови падал оземь и падал головой на грудь мертвого врага. «Кто же так с тобой?» — спрашивал его соратник. Умирающий воин с улыбкой отвечал: «Моя подушка».
Можно привести целую прорву подобных рассказов о неукротимом духе перед лицом смерти. Несмотря на отрубленные конечности воины дрались отчаянно. Они дрались сердцами, не поддаваясь всякого рода превратностям. Они боролись до последней капли крови, удерживая мечи свои зубами, если это было нужно делать, как это годы спустя сделает сводный брат Хусейна 25-летний Аббас позднее в битве при Карбале и станет одним из великих героев шиитов. Никто не отрицает и то, что в этих рассказах присутствовали нотки бравады, ведь каждый знает браваду такой, какая она есть: попыткой отбиться от ужаса. Вот почему большая часть историй о знаменитой битве верблюда воздерживаются от героики, ощущая где-то глупость, а где-то бессмысленность и трагедию этого противостояния. Каждый фрагмент, каждый вещатель выступал еще одним голосом в огромном греческом хоре трагедии, свидетельствуя ужасную горечь и никчемность гражданской войны.
То была рукопашная схватка, битва с глазу на глаз, то бишь, многие знали друг друга, и вопреки этому сходились в очном поединке. Линия раздела между силами Али и Аиши глубоко вошла в социальное обустройство. Одни племена выступали против других племен, кланы и семьи разделялись на своих и чужих, а посему братья воевали с братьями, а отцы – с сыновьями.
Не было ничего похожего с современным театром военных действий, когда балом правит технология, никто не видит глаз противника и не слышит их криков. Рукопашная схватка чрезвычайно и ужасно рефлекторна. Когда двое сходятся в схватке в непосредственной близости с помощью мечей или кинжалов, в ход пускают все, что под рукой. Здесь можно прямо пальцами проткнуть глаза противнику, коленом ударить в пах, камнем – в голову, локтем – по почкам. Воин за воином ведали о том, как сталь входила в плоть, о едком и раздражающем запахе крови, хлещущей из отрубленной конечности, об ужасающей, богомерзкой, нечестивой суете поединка, о людях, вымаранных страхом, о зловониях вывалившихся кишок, о диких от страха глаз коней, о слепом неистовстве людей и о рысканье всех и вся, находящихся в отчаянии найти хоть какой-то путь остаться в живых.
К полудню Тальха и Зубейр лежали мертвыми на поле брани. Тальха, возглавивший конницу, дрался доблестно. Он даже мог одержать победу, если в спину его не вонзилась стрела, то есть кто-то из своих убил своего предводителя. Интересно, но этим человеком был никто иной, как Марван. Впоследствии, он сам признался в этом. Он, правда, оправдывался, приводя в свою поддержку самые богочестивые доводы. Он вспомнил, что Тальха был одним из тех, кто выступал в ряду критиков режима Османа, что он подбивал мятежников и те совершили это убийство, что призыв Тальхи драться во имя мести за смерть Османа было всего лишь лицемерием. Таким образом, Марван показывал всем, что является лишь инструментом справедливости.
Как было всегда, когда дело доходило до Марвана, находились и такие, которые имели другие суждения. Одни говорили, что он воспользовался возможностью свалить своего соперника на халифат, так как если бы в тот день победила бы войско Аиши, Тальха мог объявить себя халифом, низвергнув амбиции разочарованного Марвана. Другие утверждали, что он долгое время следил за сражением, пока не увидел перевес одной стороны, и только увидев это, убил Тальху, дабы выгородить себя перед Али. Но были и третьи, которые уверенно считали, что Марван действовал по наущению очень мощного соперника на халифат. Ибо не успело сражение окончиться, как Марван уже пересек пустыню и вступил в Дамаск, где правитель Сирии Муавиййа дал ему высокую должность старшего советника при дворе. Необходим был ум, такой же хитрый и коварный, как у Марвана, чтобы знать, где находится истина.
Смерть Зубейра тоже явился актом предательства, хотя в точности не известно, кто совершил это предательство. Шли слухи, что с началом сражения Зубейр покинул свой стан и направился в Мекку. Одни назвали это трусливым поступком, хотя если взглянуть на послужной список Зубейра, его едва ли можно было отнести к трусам. Другие называют этот побег делом славы, говорят, что Зубейр был очень недоволен, когда договор, к которому он так стремился, был в одночасье нарушен. Он же дал слово чести Али, что войны не будет, но его слово оказалось нарушенным, и он очень переживал. Ведь это случилось уже второй раз, когда он брал свое слово обратно, первый раз это случилось, когда он давал обет верности Али. И если бы он не был человеком чести, то сейчас он им становился, и к слову, погиб за это.
Мекканцы утверждают, что бедуины, люди по мнению горожан очень ненадежные, догнали Зубейра и убили его как дезертира. Но кто же отдал им этот приказ? Шли слухи, что и здесь была рука Марвана, который таким образом освобождал себе путь к осуществлению собственных амбиций. Хотя доказательств этому нет. Сыну Зубейра понадобилось много лет, чтобы реабилитировать имя отца.
Итак, Тальха и Зубейр были убиты, а, значит, Аиша это сражение проиграло. Всем оставшимся в живых было велено отступать. Она, правда, пыталась, как-то вдохновить своих воинов, поддержать их своими воинственными призывами, писклявыми проклятиями в адрес врага, песнопениями в насмешку над противником, чтобы как-то сплотить оставшуюся горстку воинов вокруг себя и рыжего верблюда. Со стороны казалось, что Аиша и не думает прогрывать, ее риторика сплошь и рядом показывала, что она, словно, ослеплена кровопролитием вокруг нее. Может быть, она хотела показать воинам, что в ней нет страха, что она так же бесстрашна, как они, что она и не собирается сдаваться, что она будет продолжать бой до победного конца.
Тем не менее сражение постепенно переходило в сутолоку нескольких сотен людей вокруг ее верблюда. Один за другим воины поднимались, чтобы удержать за поводья верблюда, который шарахался от этой суматохи. Один за другим они стояли у ног своей предводительницы, держа в одной руке поводья ее верблюда, а в другой – боевое знамя. И один за другим эти воины падали оземь под ударами противника.
Падая воин, уступал свое место другому воину, и каждый раз Аиша просила называть его себя, семью, род и племя. И каждый раз она признавала его родословную, называя ее славным, восхваляла его бесстрашие и наблюдала через щели сцену смерти.
Воины Али призывали ее воинов сдаваться, даже молили их об этом. Даже тогда, когда сражения то уже не было, они кричали о том, что нет более смысла в этой упрямой односторонней бойне. Но их призывы были безответными, может быть, даже неуслышанными людьми, глухими к каким-либо доводам. И смерть вокруг верблюда Аиши гуляла словно на пороге ее дома. Она называла себя Матерью правоверных, как говорили люди, но какая мать может допустить такую смерть своих сыновей?
Один из поэтов позднее напишет: «О, наша Мать, самая беззаботная мать, какую мы знали. Разве ты не видела, сколько храбрых воинов падали насмерть с отрезанными руками и кистями?»
Другой поэт писал: «Наша мать привела нас к колодцу, чтобы мы испили из него воду смерти. Мы были там, пока наши кисти не поотрубали. Повинуясь ей, мы растеряли чувства. Поддерживая ее, мы получили ничего, кроме боли».
Семьдесят воинов, держащих верблюд Аиши за поводья, были убиты. Их тела распростерлись у ее ног. И если в ней и был весь ужас бойни, она не показывала его. Даже если бы ее саму устрашили бы смертью, она никому не показала бы страха смерти. Она слышала, как стрелы то и дело вонзались в ее металлический навес, в этом навесе было так много застрявших стрел, что один из воинов вспоминал, что «эти стрелы сверкали как дикобраз». Изолировал ли этот навес ее от кровопролития? Оставалась ли она под прикрытием этого навеса глухой к смерти? Была ли она глуха и слепа к страданиям, или хотел смело погибнуть за веру? Чтобы ответить на эти вопросы, надо сказать, что она была зависима от фактов и политики.
Кто знает, скольким бы воинам пришлось бы отправиться на тот свет, держа за поводья верблюда, если бы не приказ Али прекратить бойню. Когда он увидел бессмысленность любого требования сдаться, он понял, что люди Аиши уж очень увлечены идеей самопожертвования, чтобы можно было достучаться до их разума. Было ясно и то, что эта бойня могла привести и к смерти самой Аиши, а это было самое последнее, что Али мог себе позволить. Вопреки всему Али был не беспощаден к Аише, все-таки она по его мнению была Матерью правоверных.
«Перережьте подколенное сухожилие верблюду, — повелел Али, верблюд упадет и все разбегутся!» Вот этот внезапный проблеск подтолкнул одного из сторонников Али проскользнуть через кордон защитников Аиши и подрезать сухожилия задних ног верблюда.
Верблюд в агонии заревел и этот рев заполнил весь воздух. Этот рев застиг всех врасплох, точно устрашающее ржание коней, крики и стоны людей наступающих или вступающих в бой не на жизнь, а на смерть, лязг стали, бесконечный поток проклятий и песнопений из-под навеса, последнее, что они ожидали ровно было привязано к этому месту изувечиванием одного-единственного животного. «Я никогда не слышал звука громче, чем рев этого верблюда», — поведал впоследствии один из воинов, может быть, ровно потому, что после этого рева воцарилась тишина.
Долго глядели воины Али как верблюд пошатывается на ногах, а затем медленно садится оземь. И когда массивное тело верблюда коснулось земли, воинам, казалось, возвратились чувства, и они бросились перерезывать все лямки, удерживающие люльку на верблюде, а затем они подняли люльку вместе с Аишей. Она не издала ни единого звука, и вот это молчание было таким же неустрашимым, как и возгласы, раздаваемые из нее.
Да, они схватили люльку Матери правоверных, но были в недоумении, а что с ней делать? Никто из них и не осмеливался подойти к ней, пока Али не дал приказ Мухаммеду Абу Бакру, своему пасынку и сводному брату Аиши, который протолкнулся через толпу, подошел к люльке, приподнял бронированную завесу и спросил у своей сводной сестры: «Все ли нормально с тобой?»
«Меня ранило стрелой», — прошептала она. И на самом деле стрела торчала в верхней части ее руки, одна из сотни стрел, которая смогла пробить бронированную завесу. Брат помог ей и вытащил стрелу. И если боль при этом была очень сильной, Аиша не могла позволить себе и капельку нытья. Даже в поражении гордость ее не допускала слабости.
Голос ее спокойно и ясно раздавался из под навеса. Она признала свое поражение в этом сражении, если не в войне. «Али сын Абу Талиба, — сказала она. – ты одержал победу. Ты на славу проверил своих воинов сегодня, а посему помилуй меня милосердно».
«О Мать, да помилует тебя Аллах». – ответил Али.
«И тебя», — последовал двусмысленный ответ, но Али не придал этому значения.
Проявилось милосердие. Али повелел приемному сыну сопровождать Аишу до Басры, ее рану следовало обработать. Она должна была выказать полное уважение. И только тогда, когда ее повели верхом на коне с поля боя, она, казалось, полностью осознала весь масштаб того, что произошло. «Боже, произнесла она, — когда бы двумя десятками лет погибла я, чтобы не пережить этот позор!». И никогда мы так и не узнаем, какие же чувства заставили ее произнести эти слова: то ли стыд за свое поражение, сожаление за свои действия или чувство ответственности перед тысячами плененных воинов.
Али остался. На закате он пошел по усеянному трупами полю и шептал: «Боже, когда бы двумя десятком лет погиб я, чтоб не пережить этот день!». С гневом и отчаянием он ходил по полю далеко за полночь. Все видели, как Али останавливался перед каждым телом и совершал молитву, независимо от того, к какому стану принадлежал погибший. Многих из них он узнавал. Он воздавал должное их храбрости и скорбел по ним, но превыше всего, он говорил о своем ужасе при виде того, сколь много мусульман были убиты мусульманами. «Я исцелил свои раны сегодня, произнес Али, — но я убил своих».
Три дня Али провел там, исправляя то, что только он мог исправить. Он запретил своим убивать раненных или плененных врагов. Да, это были не иноверцы, это были праведные мусульмане, заявил он; к ним нужно отнестись с большим почтением. Тех, кто бежали, не надо преследовать. Всех заключенных следует отпустить после принесения присяги верности ему. Военная добыча, что, как правило, сводилось к мечам и кинжалам, набитым деньгами кошелям и ювелирным украшениям, все их следовало вернуть. Дабы возместить своим воинам потерю добычи, он повелел выплатить им из казны Басры.
Мертвых врагов хоронили с такими же почестями, как и сторонников Али. Сотни отрубленных конечностей похоронили в братской могиле. Только после завершения всех этих действий, когда все мертвые нашли свой упокой в земле согласно исламским правилам, Али вступил в Басру и принял обновленную присягу верности горожан.
Если бы он сделал все, что было в его силах, дабы облегчить неизбежную горечь поражения в тех, кто боролся против него, то для той женщины, которая стояла во главе восставших против него, он сделал больше. Унизить Аишу в поражении, настаивал он, это унизить себя и Ислам. И вновь он выбрал путь единения и отклонил путь мести. Когда Аиша оправилась от ранения, Али поручил Мухаммеду Абе Бекру возглавить военный отряд и сопроводить Аишу в Медину вместе с басрийскими женщинами, которые были готовы выполнить любую ее просьбу, и когда этот караван готовился покинуть Басру, Аиша, казалось, поблагодарила его за снисходительность, по меньшей мере, отчасти.
«Сыны мои, — обратилась она к басрийцам, — истинно, что некоторые из вас осуждали других, но не стоит придерживаться того, что вы слышали против них. Клянусь Богом, между мной и Али не было ничего другого, что обычно бывает между женщиной и свойственниками. Несмотря на то, что я говорила в прошлом, он показал себя одним из лучших».
Эта ее речь была очень близка к примирительной речи. И не важно, что вопреки явной покорности, в ней затушевывалась истина. Она преуменьшила претензию на правление огромной империей до масштабов простой семейной ссоры, и тем самым она принизила всех отдавших за нее свою жизнь. Кроме того, со стороны казалось, что она принимает Али в качестве халифа, но прямого заявления об этом она так и не сделала. Но Али видел в этом предел ее возможностей, подтолкнув ее на следующий шаг, ничего не можно было бы достичь. «О люди, клянусь Богом, — сказал Али, — она сказала правду и ничего, кроме правды. Отныне и навеки, она – жена вашего Пророка». Али вместе со своими сыновьями Хасаном и Хусейном почтили ее тем, что на протяжении нескольких милей сопровождали ее в обратный путь в Медину.
Аиша приняла все эти почести как должное, но на протяжении долго пути к горам Хиджаза и в свою домашнюю обитель она твердо понимала, что пострадала больше всех, чем потерпела поражение в этом сражении. Если Али почтил ее в этом поражении, то окружавшие его люди были менее склонны к милосердию. Пройдет много лет, когда она столкнется со словами одного из его двоюродных братьев, вошедшего без приглашения в дом, где она восстанавливалась от ранения, и дал волю ругани и брани.
Он напомнил ей, что именно она натравила людей на Османа. Разве не она махала сандалией Пророка? То было оскорблением всему, что отстаивал Мухаммед. «Если у тебя не останется ничего, кроме одной волосинки Пророка, ты начнешь бахвалиться этой волосинкой и выставишь ее напоказ, дабы получить выгоды». Что еще хуже, выставив мусульман против мусульман, она совершила преступление против Корана, слова Божьего. Но, что самое важное, как она осмелилась бросить вызов Ахль-аль-Бейту, роду Мухаммеда?
«Мы – плоть от плоти, кровь от крови Пророка, — говорил он, а ты одна из девяти покинутых им заполненных лож. Ты не из крепчайших корней, густейшей листвы и широчайших теней».
Как это было ужасно проигравшей Аише услышать о себе как об одной из жен Пророка, да еще в таких невежливых тонах. Для женщины, которая всегда настаивала на своей исключительной близости к Мухаммеду, то было самым последним унижением. И как ужасно не иметь детей, ни корней, ни ветвей, ни листьев, и быть укоренной еще раз в этом, и при таких обстоятельствах. Этого она никогда не простит, никогда не забудет.
Глава 10
То было, конечно же, кульминацией Али, да-да, тем самым мгновением, которого так жаждали Али и его сторонники. После ошеломляющей победы в Битве верблюда позиции Али казались незыблемыми. Но он, должно быть, чувствовал, что вот этот дар, который, как он считал, наконец-то праведным образом попал в его руки, вдруг почему-то стал разваливаться именно с того момента, когда он впервые им овладел. К тому времени он уже четыре месяца был халифом. Судьбой ему было предначертано оставаться в этом сане всего лишь четыре с половиной года.
Если поверить ранним исламским историком, то рассказ о кратком правлении Али приобретет эпические размеры классической трагедии. История, поведанная ими, станет историей о человеке, которого погубила собственное благородство, честность и неподкупность которого входили в сложный клубок противоречий с его несклонностью идти на компромиссы со своими принципами, о правителе, которого предали непостоянство его сторонников и злые умыслы врагов. И всему этому суждено было случиться, ибо уже на заре своего восхождения, с самого начала возник трагический разрыв.
Али получил халифат при смутных обстоятельствах. То были обстоятельства, запятнанные убийством Халифа, хотя в тот момент Али не только не контролировал ситуацию, но и делал все, чтобы не допустить этого убийства. Но, что бы то ни было, убийство состоялось, да еще при таких, прямо скажем, скверных обстоятельствах. Все то, чему он на протяжении всех двадцати пяти лет посвящал свою жизнь, а именно сохранению единства в Исламе, духовному прозрению и праведности в предпринятом деле терпели провал. Потрясающая решительность Али бороться с разногласиями, то бишь с фитной, настигла его самого и поглотила его.
История парадоксально жестоко обошлась с ним. Остерегайся своих стремлений – вот эта мысль часто навещала его. Она навестила его и в тот день, когда он блуждал по полю рати, читая молитвы над каждым погибшим и не желая больше видеть подобных дней. Он принес свои извинения перед Аишей, проявив к ней милосердие, и сделал бы это, если даже Аиша не сочла бы нужным просить его об этом. И вот это милосердие, исходящее из природы Али, по сути дела, сыграло злую шутку – оно не только не спасло его от того, чего он больше всего боялся, а начинало работать против него. Али еще не знал об этом, но он только что вступил на тропу реальной войны.
Эта война была не против Аиши, а с гораздо более внушительным врагом, который просто ожидал своего часа. Да, да, в Дамаске Муавия спокойно ждал того момента, когда гражданская война затянет в свое горнило Али и его сторонников. Страшные останки после убийства Османа все еще висели над кафедрой главной мечети Дамаска, и все еще являли собой живое напоминание об первородном грехе правления Али. Но Муавия не видел резона в том, чтобы начать первым войну, поскольку был шанс, что эту работу за него проделает Аиша. И когда Аиша потерпела поражение, правитель Дамаска решил взять узды правления в свои руки. При этом Муавия трезво рассчитал, что если Али оказал благородство в обращении с Аишей, то это же благородство послужить катализатором гибели Али.
Изящная извилистость четырехсложного имени правителя Дамаска – Му-а-ви-я — кажется идеальной для проклятий шиитов, которые будут копиться в сердцах сторонников Али на протяжении грядущих столетий. И если Муавия и является воплощением зла на устах и в умах шиитов, его можно назвать одним из тех, кто смог после гибели Али удержать Ислам от падения своим политическим чутьем и властью. Однозначно назвать Муавию злодеем нельзя, хотя по внешности он походил на злодея: выпяченный живот, воловьи глаза, ноги, опухшие подагрой. Но с другой стороны он обладал изощренным умом. И, несмотря на отсутствие у него всех добродетелей Али, в Муавие преобладали преимущества стратегического мышления и политической ловкости.
Правление Муавии в Сирии было ровным. Его любимой поговоркой было «ничто мне не нравится больше, чем журчащий родник на спокойной земле». Но требовались определенные способности, чтобы придать жизни подобную непринужденность. По его собственным словам, он был «человеком, благословенным терпением и осмотрительностью», искусным притворщиком, то есть, человеком с положительным византийским чутьем политика, которое позволяло ему обернуть все в свое преимущество без всяких излишеств в своих действиях.
Однажды Муавия спросил одного из своих полководцев: «Как далеко заходит ваша хитрость?» Ответ полководца был таков: «Я никогда не позволял втянуть себя в ситуацию, из которой не знал бы выхода». Муавия на этот, казалось, гордый ответ военного дал свой ответ: «А я никогда не попадал в ситуацию, из которой мне нужно было спасать себя».
Пройдет восемь столетий, и Никколо Макиавелли напишет свой фундаментальный труд труда «Государь». А Муавия уже был тем самым верховным экспертом в завоевании и удержании власти, дальновидным прагматиком, имевшим огромный успех в искусстве и науке манипулирования, будь-то с помощью подношений, подхалимства, разума или исключительно рассчитанного обмана. Отец Муавии, Абу Суфьян, был одним из богатейших и самых властных купцов Мекки, владел целыми поместьями и особняками в богатом торговом центре Дамаске задолго до того, когда Мухаммеду явились первые откровения. И хотя Абу Суфьян был в оппозиции Мухаммеду, родовые узы его сына простирались до самого Пророка. После фатах, когда Мекка открыла свои врата Исламу, Мухаммед приблизил к себе Муавийу в знак единения Ислама. Восьмая жена Пророка после смерти Хадиджи, Умм Хабиба, была сестрой Муавийи, и он назначил ее брата на завидную должность одного из своих писарей. Так что Муавийа мог утверждать о том, что присутствовал в комнатенке Аиши в предсмертные дни Мухаммеда. И если другие и не помнили об этом, то не в их интересах было заявлять сие во всеуслышание.
Муавийа был назначен правителем Сирии Омаром, вторым халифом, а затем переутвержден Османом, не в последнюю очередь, ибо Муавийа был из рода Умеййадов, троюродным братом Османа. Он же обладал выдающимися способностями. К тому времени, когда Али стал халифом, Муавийа уже правил Сирией двадцать лет, и вся ему подвластная территория, а она охватывала современные Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию, Израиль и Палестину, стала его личной вотчиной, центром его собственного правления.
До сих пор любые действия Муавии в целях борьбы за халифат, как-то не бросались в глаза. Поговаривали, что он сам был задействован в убийстве Османа, что, то самое тайное письмо, которое так разгневало мятежников, было состряпано Марваном по приказу Муавии. Шли слухи, что именно Муавия удерживал подкрепление, которого просил у него осажденный халиф. Была ли истина в этих слухах, всегда останется тайной, но Муавие нравился такой ход событий. Ведь если бы слухи оказались верными, то они указывали на его силу, в противном же случае, подчеркивали бы его честность, верность двоюродному брату. Так признать их или отрицать? Тем или иным образом слухи играли на него. Если люди хотят видеть его в роли кукловода, который за сценой искусно дергал за веревки, так тому быть. Он показывал себя человеком, игнорировать которого во все времена становилось немудрым поступком.
Между тем, он, казалось, был доволен тем, что укрепил свое положение, и стал ожидать терпеливо в окружении роскоши. Да, да, его дворец в Дамаске, известный под именем Аль-Хадра, Зеленый, и названный так за потрясающий по красоте зеленый мрамор, использованный в облицовке этого дворца, превосходил по своей красоте дворец Османа в Медине. В то же время народ не выступал против него, как это было против Османа, возможно, из-за щедрости и беспощадности правителя. В действительности же, он гордился тем, что был щедрым и беспощадным в равной степени, именно в той мере, каким ему нужно было быть.
Однажды он так и заметил окружающим: «Даже если между мной людьми будет связь хотя бы на волосок, я не позволю нас разделить. Если люди будут держаться за эту связь, то я ослаблю хватку, если они ослабят ее (эту связь), я ее удержу». А что касается любого признака недовольства, он поговаривал: «Везде, где можно будет пользоваться бичом, я не применю свой меч, везде, где достаточен будет мой язык, я не применю свой бич».
Недовольство, порой возникающее в Муавие, не походило на гнев диктатора, а было чем-то более изящным и посему уж очень леденящим. Как отмечал один из его полководцев: «Всякий раз, когда я видел его склонившимся, скрестившим ноги, хлопающим глазами и повелевающим молвить слово, мне всегда становилось жаль того, к кому он обращался». Муавия невозмутимо и самое противное ему, а именно, когда его начинали звать сыном поедателя печени. Конечно же, он усматривал в этом насмешку, ибо в традициях того общества прозвище по матери считалось оскорблением, словно потомок был незаконно рожден. Муавия как-то попускал эти насмешки, приговаривая при этом: «Я не могу стать между людьми и их языками, коль скоро они станут между нами и нашей властью». И, вообще, почему бы не запретить все эти прозвища? Прославленный образ Хинда, матери Муавии, забившей себе рот печенью Хамзы, работал на него. Любой сын такой матери мог снискать к себе если и не страх, то уважение, а Муавиййа имел и то, и другое. Его боялись и уважали все. Но не Али.
Как только Али вступил на халифский трон, он решил радикально разрушить режим Османа. С этой целью он велел всем правителям провинций вернуться в Медину. Явились все, кроме Муавии. Дамаск взял и просто отмолчался. Муавия вовсе не желал, чтобы его сместили. Напротив, он хотел обратного.
Советники Али предупреждали, что Муавия не явится, если Али заблаговременно не утвердит его на посту правителя. Вместо того, чтобы угрожать Муавие, советовало окружение халифа, с ним лучше заигрывать, вести политическую игру. Пусть он отсиживается в Дамаске, поговорите слащаво, заманчиво с ним, пообещайте ему с три короба, настаивали советники, гладишь и дело сдвинется. Один из полководцев так и заявил Али: «Если вы переубедите его, и он принесет вам присягу в верности, я постараюсь свергнуть его. Клянусь, я напою его водой, а потом отведу в пустыню и оставлю его там глазеть на тыльную сторону того, о лицевой стороне которого он и понятия не имеет. Тогда вы не понесете утраты, не почувствуете вину».
Али не согласился: «Несомненно, то, что предлагаешь мне, есть лучшее для этого мира. Но мне не по пути с этими коварными схемами, будь они задуманы вами или Муавией. Я не поступлюсь своей верой, применяя подобные обманы. Я не позволю подобных презренных людей быть рядом со мной. Я никогда не назначу его губернатором Сирии даже на пару дней».
С той самой поры победы в битве верблюда прошло четыре месяца. Муавия был губернатором Сирии, не принеся при этом присягу верности Али. К тому времени он, вконец, ответил на все требования Али повиноваться ему, ответил открытой враждебностью. «Али, будь тверд и стоек как крепость, — писал он, — или ты найдешь пожирающую войну от меня, все будет вокруг пылать и полыхать. Убийство Османа стало скрытым действом, заставившим поседеть, и никто не отомстит за него, кроме меня».
Несмотря на советы окружающих Али людей, ответ халифа был свирепым: «Клянусь Аллахом, если Муавия не даст мне присягу в верности, он ничего не получит от меня, кроме меча!».
«Вы бесстрашны, Али, — говорил один из советников, — но не зачинщик войн».
«Вы, что, предпочитаете мне быть гиеной, загнанной в его логово, пугающейся каждого звука гальки под ногами? — возражал Али. – Как мне потом править? Не хочу быть в таком положении. Клянусь Богом, он ничего, кроме меча от меня не получит!»
Его советники прекрасно понимали, что Али был самым лучшим воином, тем воином, который ненавидел войны, а в особенности, гражданские. Да, он бился в сражении верблюда, доказав свою решительность, он не был зачинателем этого сражения. Он делал все, чтобы избежать его. А сейчас, несмотря на всю его злость, он все-равно желал бы избежать кровопролития, веря в то, что Муавия тоже разделяет с ним ужас гражданской войны.
Одни говорят, что Али был наивен и даже глуповат. Другие утверждают, что тщеславие ввело Али в заблуждение, а его колебания в начинании военных действий против Муавиййи были колебаниями правдивого, честного человека против того, кто отличался в этом от него. Задним умом человек всегда является мудрым. С уверенностью можно сказать лишь одно: в противостоянии Али и Муавии, по одну сторону стояло право, по другую — политическая изворотливость. И лишь верующий человек мог поверить в торжество права.
В надежде оказать давление на Муавию, Али повел свое испытанное сражениями войско из Басры на север в Куфу, поселение, расположенное на расстоянии 150 милей от Дамаска. Он подготовился к переброске войска. Намек был ясен: если Муавия хочет войны, то весь Ирак восстанет против него.
Бывший гарнизонное поселение Куфа превращался в процветающий город на берегу Евфрата, с россыпью вилл, построенных бывшими правителями города при Османе вдоль этой благодатной реки. Али предложили занять особняк бывшего главы гарнизона Куфы, но он отказался. Он назвал эту виллу Гаср аль-Хабал, «замком коррупции». Свою штаб-квартиру он устроил в скромном кирпичном доме у городской мечети. Не будет более этих дворцов из зеленого мрамора, фаворитизма подельников и родичей, не будет более воровства выделяемых средств, заявил Али, и восстановится правление праведности. Куфийцы за эти слова полюбили Али.
Пребывание халифа в Куфе превращало этот город в столицу Исламской империи. Жителей города больше не звали провинциальным сбродом или захолустными бедуинами. Они жили в сердце Ислама, а Али был их правителем. Этот расцветший город привлекал к себе освобожденных рабов, крестьян, купцов и ремесленников, как и сегодня, когда быстрорастущие города притягивают к себе людей перспективами широченных возможностей, как реальных, так и иллюзорных. Персы и афганцы, иракцы, курды принимали решение остаться в Куфе, ибо вот эти новые обращенные в Ислам люди до той поры считались мусульманами второго сорта. Здесь же, в Куфе, их принимали как равных. Арабизм Омара, Умеййадизм Османа остались в прошлом. Али, самый близкий к Пророку человек, вернет Исламу идеал более совершенного союза всех верующих.
Али никогда не думал, что переезд в Куфу будет постоянным. Он намеревался отрегулировать конфликт с Муавией и Сирией и вернуться в Медину. Но ему не суждено будет вернуться в родные края. Принятие им решения остаться в Куфе обусловило то, центр власти в Исламе начал смещаться с Аравии. Тому же способствовал сам Муавия. Отказав в признании Али халифом, Муавия породил проблему. Именно эта проблема привела Али в Куфу, именно эта проблема и превратит Ирак в колыбель шиитского Ислама.
Может быть, неизбежно было то, что рано или поздно властный центр Ислама выйдет за пределы своей колыбели, и куда же ему было переместиться, как в Ирак. Плодородные низменности Междуречья, богатые пастбища степей Джазиры к северу традиционно считались настоящим центром Ближнего Востока. Великие города античной славы – шумерский Ур, в ста милях вниз по реке от Куфы, столица Ассирии Ниневия, расположенная около Мосула на севере, знаменитый Вавилон в сорока милях на север от Куфы, персидская жемчужина Ктесифон, раскинувшаяся недалеко от Багдада – все они располагались в Ираке. А теперь вся эта земля вновь превращалась в обширный географический и сельскохозяйственный центр огромного региона, который приобретал решающую значимость в управлении всей империей. Али и Муавия были хорошо осведомлены об этом.
Судьба на этот раз посмеялась над Омеядскими аристократами Мекки. Власть, которая совсем недавно была в руках Османа, была безвозвратно утрачена в пользу новоиспеченных иракцев. Зачем надо было оставить центр Ислама в Аравии и перемещать его в Ирак? Не это ли было оскорблением, позорным жестом приглашения «провинциальных жуликов», которые так горячо поддерживали Али. Оставались ли Мекка и Медина в стороне? Превращались ли эти города лишь в центры паломничества, расположенные в сотни милей от центра империи? Становились ли эти города сторонними наблюдателями развития исламского вероисповедания, колыбелью которого они являлись?
Четко обозначились проблемы мекканцев. Их потомки будут в будущем правителями Ислама. Но они никогда не будут жить в Аравии. Пройдут века, мусульманская власть будет сосредоточена в Ираке, Сирии, Персии, Египте, Индии, Испании, Турции, но никогда не в Аравии, которая будет отрезана от исламского мира. Доисламская изолированность Аравии предотвращалась лишь паломничеством. Пройдет тысячи лет, пока Аравия не возвратит себе хоть какую-то политическую силу. Это случится в восемнадцатом веке в центральном высокогорье Аравии, где возникнет фундаменталистская ваххабитская секта, которая совершит насильственные набеги на шиитские святыни в Ираке и даже затронет своими агрессивными действиями священные мест поклонения в Мекке и Медине. В двадцатом и двадцатом первом веке семейство Сауд войдет в союз с ваххабитами и расширит их влияние по всему миру. Аравия, которую теперь называют Саудовской Аравией, финансируемая своим нефтяным богатством, вернет себе верховенство в Исламской империи, которое она когда-то упустила в своей истории. Ей будут пособничать, ее будут подстрекать жадные до нефти круги Запада, даже если она будет взращивать настроенных к борьбе против Запада суннитов-экстремистов.
Но вернемся к нашей истории. Для Муавии оставалось лишь одно – призвать свой народ на войну против Али. Позиция правителя Сирии была бы намного сильнее, если бы он смог не просто призывать к войне, но и требовать ее. Он все еще «держал за пазухой» рубашку Османа и отрубленные пальцы Наили. Теперь же надо было все это выставить напоказ и взвинтить ситуацию. Опираясь на содействие самых талантливых современных пиарщиков, он захотел украсть у Али славу и благородство и примерить их на себе.
Первое, что сделал Муавия, он обратился к поэтам. Это для вас может показаться странным, так как на Западе поэтов вообще не признают. Но в середине седьмого века на Востоке поэты были настоящими звездами. Особенно к этой касте относились поэты-сатирики, их бесконечно цитировали, их творения скандировались. Стихи писались не для того, чтобы можно было насладиться их чтением. Стихи писались для того, чтобы их легко можно было бы выучить, запомнить, повторять, и не в литературных салонах того времени, а на улицах, в переулках, на рыках и мечетях. И чем острее был стих, тем он и его автор были популярнее, тем чаще повторялись строки среди людей.
Порой бывало и так, что стих создавал смертельную опасность для автора. Был случай, когда одна популярная поэтесса написала стих, посвященный восхождению Мухаммеда к власти в Медине, где была такая строка: «Мужчины Медины, неуж-то вы — рогоносцы, неужто вы дадите этому проходимцу прибрать к рукам ваше гнездо?» В ответ за причиненную своими стихами боль она ночью получила удар мечом прямо в сердце. Слово проникло так же быстро, как распространялись ее стихи, и другие стихоплеты Медины, относящиеся критически к Пророку, как-то быстро свернули свои неблагожелательные помыслы и стали писать оды в его хвалу.
В двадцать первом веке весь западный мир содрогнулся от реакции мусульман на карикатуры Мухаммеда в Дании. Пошли слухи, что в Исламе нет обычая сатиры и посему такая реакция. Напротив, в Исламе она, конкретно, существует, и связана с войной. В седьмом веке сатира была потенциальным оружием, и эта тенденция все еще сохраняет свою силу. Салман Рушди своими «Сатанинскими стихами» совершил переполох в Исламском мире только потому, что это произведение было чрезвычайно сведущей сатирой. Обыграв тему коранических стихов и хадисов о Мухаммеде, Рушди задел за живое. На Западе сатиру считают абсолютно безвредной, самое лучшим юмором на Западе является сверхострый юмор, «сверхострый» в переносном смысле слова, в Исламе же это словов приобретает буквальное значение. Слово, как первое оружие на войне, может пролить кровь.
Сатира, как правило, направлялась на врага. Надо иметь изящный, изворотливый ум, каким он был у Муавийи, чтобы увидеть силу сатирических стихов, которые, казалось, оскорбляли его, ставя его мужской потенциал под вопрос, обвиняли его в слабости, если тот не вступит в открытый бой с Али.
Некоторые из этих стихов написал и даже подписал двоюродный брат Муавийи – Валид, который приходился к тому же сводным братом Осману – тот самый деятель, который подогрел ненависть к третьему халифу своими пьяными выходками в куфийской мечети. Вот, что он писал в своих стихах: «Муавия, ты теряешь время, словно молодой верблюд, рвущийся спариваться, но ограниченный в стенах Дамаска и ревущий там, но не способный сдвинуться. Боже мой, если пройдет еще день без отмщения Осману, уж лучше, чтобы твоя мать была бы бесплодной. Не позволяй змеям ползти на себя! Не будь слабаком с усохшими предплечьями. Подари Али войну и окрась его волосы в проседь».
Другие призывали Муавийу «подняться высоко над седлом в стремени» и «ухватить за завесу возможностей». Но самым популярным в Дамаске стихом был тот, в котором ясно говорилось о противоборствующих сторонах. «Я вижу Сирию, возненавидевшую правление Ирака, — говорилось в нем, — и народ Ирака, возненавидевший Сирию. Они ненавидят друг друга. Они называют Али своим предводителем, но мы отвечаем, что довольны сыном Хинда».
Такие стихи не могли циркулировать по городу без одобрения и без ведома Муавийи. То было часть политики правителя Сирии, чтобы поднять в людях дух войны, дух, которым можно было бы легко манипулировать. В действительности, духом народа манипулируют по сей день даже в самых демократических странах мира. Помните, как ложно представили агрессию против Ирака в 2003 году, назвав ее реакцией на атаку Аль-Каиды 11 сентября 2001 года.
Муавия объявил войну письмом: «Али, чтобы ты принес обет верности каждому Халифу, тебя приводили к ним, словно верблюда тянули за привязь через нос, — писал он, словно Али был не Халифом, а был как минимум самозванцем. Он обвинил Али в развязывании «тайного и открытого» мятежа против Османа. Убийцы Османа были «твоим остовом, помощниками, руками, окружением». Народ Сирии всеми силами стремится бороться против тебя, пока ты не сдашь убийц. Если ты сделаешь это, то Халиф будет выбран шурой среди всех мусульман. Народ Аравии привык держать это право за собой, но они упустили его, и право это сейчас находится в руках народа Сирии», то есть в руках у Муавийи. Правитель Сирии был готов сам претендовать на халифат.
Ранним утром лета 657 года оба войска встретились на равнине Сиффин, к западу от Евфрата, в том регионе, который сейчас называют северной Сирией. Воодушевленное войско Али преодолело 500 милей вдоль реки от Куфы. И чем дальше они шли, тем воздух становился прозрачней, суше, чем в низовьях Евфрата. Долина постоянно сужалась. Степные скалы уступали место плодородным пастбищам Джазиры, к северу виднелись заснеженные вершины гор, а исходящая илистая, широкая и коричневая по цвету река в Куфе превращалась в реку с быстрым течением в результате паводков.
Победи оно сирийское войско, то перед ними оказалась бы вся Сирия и ее корона – Дамаск, все каналы, деревья, экзотические фрукты, Зеленый Дворец с его мраморными надворьями, инкрустированными жемчугом тронами, журчащим фонтанами. Сама идея фонтанов, этих источников прозрачной, свежей воды в таком изобилии, что ею можно было пользоваться просто для забавы? Да, за это стоило бороться.
Тысячи вооруженных воинов не проходят тысячу миль, чтобы заключить мир, но когда войска достигли Сиффина, то было вопросом чести для каждой из сторон, показать себя стороной пострадавшей и отнюдь не агрессором. На протяжении недель они сдерживали все свои порывы, принимая участие только в поединках и отдельных стычках. Даже эти столкновения были где-то ограничены. Во время молитв, как и тогда, три раза в день, воины отделялись, удалялись на полмили, чтобы помолиться. «Когда наступала ночь, — вспоминал один из воинов, — мы ехали друг к другу, чтобы посидеть и побеседовать друг с другом».
Между предводителями тоже проходили беседы. Промеж войск был сооружен богато украшенный шатер, с каждого угла которого развевались знамена. Здесь Али и посланники Муавии испытывали решимость друг друга. Муавия имел полное преимущество в этих переговорах: он полностью осознавал страх Али перед гражданской войной и искал пути обратить этот страх в свое преимущество. И чтобы достичь этой цели были пути, менее дорогостоящие, чем прямые военные действия.
Даже тогда, когда Муавия публично потребовал от Али отречься от халифского престола, он предложил ему альтернативное решение. Он предложил Али избежать войны и поделить империю между собой. Муавия себе взял бы Сирию, Палестину и Египет, а Али оставил бы контроль над Ираком, Персией и Аравией. Ровно эта граница де-факто проходила между Персией и Византией до арабского завоевания. Муавия по существу предлагал двух халифов вместо одного.
Неудивительно, что Али отклонил это порочное предложение с негодованием. Но даже если это предложение Муавийи было обречено на провал, оно послужило еще одним средством насмешки над Али. В идеале, если Али в тот момент, под давлением этого предложения начал бы войну, Муавия стал бы пострадавшей стороной, а Али – агрессором. Взамен Али пошел на следующий шаг, чтобы избежать сражения: он подъехал к шатру на середине равнины и вызвал Муавию на поединок. Голос Али донесся до первых рядов обеих сторон. Эта дуэль могла бы разрешить весь вопрос и избежать кровопролития.
Начальник штаба Муавийи Амр, полководец, прославивший себя завоеванием Египта для Ислама, настаивал на том, чтобы Муавия принял вызов. «Не подобает тебе отказываться от этого вызова, — сказа он с чувством чести воина. – Предложение сразиться в очном поединке справедливо».
Но Муавия довольствовался тем, чтобы решил оставить честь и славу Али. Он был намного практичен. «Это не справедливо,- возразил Муавия, — он убивал каждого, кто выходил с ним на поединок». Этим доводом Муавия не оставил возможности ни для никаких решений, кроме одного – непосредственного военного действия.
Али вернулся к своему войску и обратился к нему. «Сирийцы дерутся только за этот мир, в котором они могут быть тиранами и королями, — сказал он. – Если они победят, то искалечат жизнь и веру вашу. Одержите победу над ними, а не то Бог отнимет вашу веру и не вернет ее вам!» Войско вторило ему, и по мере возрастания этой поддержки, он все более призывал их быть свирепыми в борьбе с неправедными. «Поборите врага, — говорил Али, пока вражеские лбы не будут расщеплены сталью мечей, а брови не будут рассечены над подбородками и грудью».
На этот раз не было перерывов на молитвы, на этот раз прекратились взаимные посещения для умилительных бесед. Сиффинское сражение продолжалось три дня. Оно было столь ожесточенным, что продолжалось и ночью. Ночь воплей, так они назвали эту вторую ночь, за ужасающие вопли людей, находящихся в смертельной агонии, за вопли, которые сегодня можно уподобить воплям животных, сбитых автомобилями, ползущими на обочину дороги, дабы помереть там.
Самого Али чуть не убили. Стрелы летели так плотно и стремительно вокруг него, что, как отмечал свидетель, «его двум сыновьям, Хасану и Хусейну, было очень трудно отбиваться щитами от стрел». Они призвали Али двигаться быстро, дабы не стать открытой мишенью для врага. Знаменитый ответ Али, воплощение истинного самообладания в сражении с противником, стало предзнаменованием тому, чему суждено было случиться.
«Сыновья мои», — произнес Али, — «этот роковой день неизбежно настанет для вашего отца. Быстрые движения не отсрочат его, и какая разница для вашего отца, он настигнет смерть свою или смерть настигнет его».
Смерть не настигла Али в Сиффинском сражении. Когда солнце в пятничное утро взошло над горизонтом, сражение было почти выиграно. Сирийские ряды дрогнули, иракцы хоть и медленно, но неумолимо продвигались вперед, несмотря на потери. Окончательная победа была в двух шагах, являлась вопросом времени, требовалось максимум несколько часов, чтобы разгромить противника, а может, все так казалось.
Амр убедил Муавию в том, что если сражение нельзя выиграть силой, то можно победить хитростью. Необремененный узами духовного лидерства Муавия в хитрости чувствовал себя как рыба в воде. И уж кто, как не он, мог пойти на все ухищрения под прикрытием веры. Дали приказ: не отступать, ну и, конечно, не сдаваться, принести несколько копий Корана. Эти копии распределили среди предводителей конников, а тем повелели нанизать на копья страницы Священной книги. С нанизанными страницами Корана этим всадникам требовалось прорвать ряды врага. Таким образом, Муавия не стал поднимать белый флаг, а вместо него поднял страницы Корана.
Ни один белый флаг не подействовал на воинов Али так сильно, как это сделали пергаментные листы Корана, развевающие на копьях противника. Посыл был таков: прекратите борьбу во имя Бога, не проливайте кровь мусульман на святые листы Корана, поднимите руки вверх как мусульмане. К тому же Муавия повелел свои всадникам так, на случай, если этот посыл будет не услышан, кричать во всю: «Пусть Книга Бога станет судией между нами!»
Али был потрясен этой сценой. Нанизывать листы Корана на копья – это уже было богохульством. Воины Али понимали, что такие действия противника – это было чистая и простая уловка. «Они подняли Священную книгу дабы обмануть нас, — призвали они своих воинов, -они просто хотят перехитрить нас».
Половина воинов узрели эту уловку, другая половина не увидела ее. «Если нас призывают Книгой Бога, — говорили они,- то мы тоже должны отвечать призывом. Мы не можем воевать против Корана». И вопреки приказам своих предводителей, они начали слагать свои оружия. И Али, который буквально был на грани от победы, видел как ее от него уводят. «Клянусь Богом, — говорил он своим воинам, — говорю вам, вас обманули!» Но довод был сильней: нельзя поднимать оружие против веры. Имидж залитого кровью Османа Корана был все еще свеж в памяти людей, они не собирались совершать такое кощунство во второй раз.
Увидев такое положение дел, Муавия быстро послал глашатая, который встал межу двумя войсками и прочитал послание своего правителя. Отныне вопрос, кто должен стать халифом, решается не людьми, а Богом, не на поле сражения, а самим Кораном. Пусть каждая из сторон изберет доверенных, которые проведут суд и решат этот вопрос, пользуясь единственным авторитетным источником – Кораном. Окончательным решением будет таким образом решение Бога.
Надо сказать, что это предложение поддержали обе стороны, ибо Муавия сформулировал его в очень благочестивых терминах. Людям Али казалось, что любой суд, ведомый Кораном, так или иначе, отдаст ветвь первенства Али. Но сам Али не был обманут. Сама идея суда для решения вопроса преемства халифата, не только подтверждал его изначальное право на халифат, он так же превращал Коран в основу для переговоров. Впервые в истории Коран стал политическим инструментом.
Али был полностью переигран. Чтобы ни произошло, он ясно видел, что как Муавия управлял ситуацией, один из самых мирских людей использовал веру против одного из самых благочестивых людей. С войском, который отказывался продолжить борьбу, Али не оставалось ничего делать, как согласиться на этот суд. «Не забывайте, что я приказывал вам продолжить борьбу, — сказал он своим воинам. – «Ваше поведение разрушит мощь, уничтожит право и унаследует покорность. Позор вам! Вы уподобились трусливым верблюдицам, копающимся в мусоре. Не видеть вам больше славы!».
Не прошло и года после вступления Али на халифский престол в Медине, как произошло Сиффинское сражение. Не прошло и года, как он почувствовал, что его правлению приходит конец. Он был всего в нескольких шагах от триумфа, но все повернулось вспять, часы начали обратный отсчет, который приведет к концу правления Али.
Глава 11
Подавленное иракское войско плелось вслед за Али обратно в Куфу. Многие из воинов начинали понимать суть произошедшего. По всей вероятности они стали осознавать, что их, действительно, обманули. Просто взяли и воспользовались их же верой против них. Очень горько было тем воинам, которые призывали сложить оружие при виде листков из Корана, нанизанных на копья конницы Муавии. На кого было пенять? И так как Муавия к тому времени был уже позади, в Дамаске, всю горечь поражения воины стали выливать на человека, который изначально привел их в Сиффин.
Обвиняя Али за действие, в которое они его втянули, воины стали порождать новый образ врага, на этот раз не из Сирии, не из Мекки, а из собственных рядов, врага более опасного, ибо этот воины подпитывались не стремлением к власти, а слепой, неумолимой логикой озлобленных праведников.
Лидером таких воинов стал Абдулла ибн Вахб, имя которое заставит вздрогнуть сведущих в Исламе людей, так как оно перекликается с именем Абд аль-Ваххаба, основателя ваххабитской секты исламских фундаменталистов, господствующих в Саудовской Аравии, секты, которая является идеологической основой суннитского экстремизма. Последователи Абдуллы ибн Вахба звали его по-другому, Зуль-Зафинат, «покрытый шрамом». Речь шла о шраме на лбу этого воина. Одни сказывали, что этот шрам представлял собой темную мозоль, другие говорили, что шрам этот – знак чрезвычайного благочестия, ибо являлся следом частых прикосновений к земле во время молитв. Третьи объясняли это тем, что в ходе сражения Абдуллы Ибн Вахб получил этот шрам, так как левая его рука была изуродована. Назывались и другие причины.
Когда Али уже будучи в Куфе поднялся на кафедру в мечети, чтобы начать свою проповедь, Ибн Вахб вдруг встал и начал ругать Халифа: «Ты и сирийцы соперничали друг с другом в неверии, подобно скакунам на скачках, — произнес он. – По-божески было бы, если бы Муавия и его последователи покаялись в своих грехах или были убиты, но ты заключил с ними соглашение и дал людям самим решать. Ты дал людям полномочия, выходящие за пределы Книги Бога, а потому все твои дела бессмысленны и ты обречен на поражение!».
Последователи Ибн Вахба присоединились к своему лидеру. Нельзя выносить на третейский суд роль Халифа, кричали они. Преемство Посланника Аллаха является вопросом божественного права. Это право было у тебя, и ты его утратил. Али, как и Муавию, обвинили в нарушения божьих законов. Оба правителя получили обвинения, их в равной степени назвали отвратительными людьми перед Богом. Вновь и вновь они выкрикивали свой призыв, который и объединит их в будущем: «Только Бог может рассудить! Только Бог!».
«Да, вы правы, — пытался возражать Али, — когда утверждаете, что только Бог может рассудить. Но вы пользуетесь этим призывом для того, чтобы внести ложь и двуличие. Ведь именно вы настояли на том, чтобы провести третейский суд. Именно вы пренебрегли моими предупреждениями. Как же вы можете сейчас выступать против меня, тогда как сами же на этом настаивали?
Да, трудно найти на свете человека, столь праведного и слепого к доводам, как переродившийся грешник. «Да, мы хотели третейского суда, — выступил Ибн Вахб, — а, значит, мы согрешили и стали неверующими. Но мы покаялись. И если ты покаешься, то мы будем с тобой. А если нет, то Коран гласит: Мы отвергаем вас без различия, ибо Бог не любит вероломства. Все другие присутствующие в мечети люди зашумели, услышав столь явное обвинение Али в предательстве. Тогда Вахб заявил, что Куфа находится в состоянии джахилиййи, языческого мрака, господствовавшего в Аравии до появления Ислама, и призвал своих людей покинуть мечеть. Вышло около трех тысяч человек. В пятидесяти милях от Куфы эти люди основали новое поселение у берега Тигра в местечке под названием Нахраван. Вахб назвал это поселение гаванью подлинной чистоты, маяком праведности в погрязшем мире.
Этим людям суждено было стать первыми исламскими фундаменталистами. Они называли себя – хариджитами – отрицателями, дословно слово хариджи означает «тех, кто покидает». При этом они ссылались на 9-ую суру Корана, где была ссылка на тех, кто идет служить делу Божьему и которая была удачно озаглавлена «Покаяние». Свет озарил их, и они раскаялись, с абсолютизмом покаявшегося грешника они посвятили себя букве Корана, но отняв в себе дух этой Книги. Если ты святой, то мы святее, если ты чистый, то мы чище – вот так эти люди начали свой праведный путь, ревностно воюя за чистоту, зачастую переваливая грань тотального фанатизма.
Все, что не соответствовало их вере, считалось ими отступничеством, а следовательно, должно было безжалостно уничтожаться, дабы сие не осквернило праведников. Жители окрестностей Нахравана подвергались их жесткому давлению, можно сказать, мини инквизициям. Если нормы поведения этих жителей не соответствовали их строгим стандартам, следовало наказание смертью.
Они доигрались до того, что выбрали жертвой себе сына фермера, отец которого был одним из первых последователей Мухаммеда. Несколько хариджитов вторглись в деревню и решили показать всем наглядный пример своих принципов. Надо сказать, что отец этого фермера был среди тех, кто предупреждал не занимать стороны участников перед сражением верблюда. Они и задали ему вопрос: Разве твой отец не говорил тебе, что Пророк сказал ему: «произойдет фитна, сердце и плоть человека сгинут в ней, а если ты выживешь, тебе не быть убийцей, а быть убитым? Он, что не говорил тебе об этом?
Этот случай, в действительности, имел место. Тогда дрожа от страха, ибо было ясно, что отказ занять позицию одной из сторон считалось в высшей степени предательством в глазах этих людей, и что он сам, не собираясь быть убийцей, переходил в стан убитых. И когда группа хариджитов, окружив сына фермера, с этими словам сужали круг вокруг него, он внезапно воскликнул: «Али знает намного больше о Боге, чем вы».
Этими словами он предрешил свою судьбу. В глазах хариджитов Али был отступником. Те, кто подчинялись правилам отступничества, считались хариджитами виновными и их необходимо было казнить. Они схватили фермера, связали его вместе с его беременной женой и поволокли их к финиковым пальмам, растущим в саду, разбитом рядом с рекой.
Далее события описываются довольно точно. На землю с пальмы упал финик. Один из хариджитов подобрал этот финик и съел его. Предводитель отряда хариджитов закричал на своего подопечного: «Как это так? Ты подбираешь с земли финик без разрешения собственника и не заплатив за него ешь его? А ну-ка выплюнь!». Другой из хариджитов, размахивая своей саблей, нечаянно смертельно ранил корову позади себя. Хариджиты наехали и на него, требуя от него, чтобы тот нашел собственника коровы и заплатил за нее. Они стали ждать, пока тот сделает это. А затем с чувством праведности начали творить казнь над фермером и его женой. Они приказали ему стать на колени и наблюдать за тем, как они вырезают еще не родившийся плод из живота его жены. Далее они взяли на свою саблю этот плод. Затем они отрезали голову фермеру. Один из свидетелей впоследствии заметил, что кровь фермера текла как шнурок сандалии. Справедливость на их взгляд взяла вверх, финик выплюнут, за корову заплатили, фермер и его жена жестоко убиты. Далее они купили припасы, собственно говоря за тем они явились в эту деревню, и продолжили свой путь в Нахраван.
Все что они сотворили, было сделано в сознании и с «чистой» совестью. Как они утверждали, что именно Бог им повелел убить фермера и ее беременную жену, ибо женщины и дети врага разделяют его грех. Невинных не было. Вот таким путем хариджиты седьмого века оставляли «наследство» для своих будущих последователей.
Как свой предшественник, человек со шрамом, в седьмом веке, создатель вахабизма Абд-аль-Ваххаб будет продвигаться со своими последователями в высокогорные пустыни центральной Аравии одиннадцать столетий спустя. Там, в местности, которая сегодня является городом Риядом, он создаст пуританское спартанское сообщество, незагрязненное мраком и грязью язычества, которое столь характерно для Мекки и Медины. Как и свои предшественники, ваххабиты начнут совершать набеги за пределы своей крепости, и в начале девятнадцатого века они начнут рушить купола над святынями Фатимы и других святых в Медине, и даже повредят гробницу Пророка. Они считают богато украшенные святыни идолопоклонством. Далее они вступят на север Ирака, где разграбят святыни Али и его сына Хусейна в Наджафе и Карбале.
Идеология ваххабитов, провозгласившая возвращение к истокам Ислама, собрала в двадцатом и двадцать первом веке под своими знаменами последователей не только в Саудовской Аравии, но и талибов в Афганистане, салафитов в Египте, аль-Каиду. Внутренний враг в Исламе станет таким же опасным, если не более, как и внешний враг. Президента Анвара Садата убили в 1981 году за то, что он осмелился договориться с врагом, не говоря уже о мире, он был объявлен врагом и возглавлял список тех, кого предстояло уничтожить.
Если среди иракских шиитов произнести слово «ваххабит», то он под этим словом поймет все формы суннитского экстремизма, независимо от страны происхождения. Силовая политика гражданской войны в Ираке наложила на шиитов отпечаток нетерпимости и варварства на протяжении полутора тысячелетия. И эти впечатления каждый раз возвращают их к тому самому событию у берегов Тигра, когда были зверски убиты фермер и его беременная жена, и к тому событию, когда правоверного халифа обвинили в Куфе в предательстве Корана люди, которые настояли на том, чтобы он сложил оружие под именем Корана.
Для Али резня на берегу Тигра была уже за гранью презрения. Он направил послание Вахбу, чтобы тот сдал своих головорезов. «В Коране сказано: это явное греховодье, — писал Али. – Клянусь Богом, если бы даже убил бы курицу таким способом, оно послужило бы весомым вопросом перед Богом. Как же быть в этом случае с душой человека, на убийство которой наложен Богом табу?».
Ответ Вахба был таков: «Все мы – убийцы. И все мы скажем: Твоя кровь, Али, стала халал (дозволена свыше) для нас.»
То было прямым объявлением войны, словами, от которых застывает кровь в жилах мусульманина, даже сегодня. То были слова неумолимого довольства тех, кто убивает непринужденно, во имя Бога. И в третий раз Али ничего не оставалось, как совершить столь ненавидимое им действо – собирать мусульман на войну с другими мусульманами.
У Нахравана произошло довольно стремительное и кровавое сражение. Хариджиты просто бросались на явно превосходящие силы противника. Казалось, что их не беспокоили вопросы выживания. «Истина с нами, братья! – подбадривали они друг друга. – Готовьтесь к встрече с Богом! Спешите в рай! В рай!». Вот с такими воззваниями кидались на врага предшественники современных террористов-смертников, пользующихся этими же воззваниями.
Выжило всего четыреста хариджитов. Кто знает, может быть, для Али было бы лучше, если бы выживших вообще не было. Свыше двух тысяч мучеников полегли в том сражении. Как и всегда бывает в таком случае, память о мучениках еще больше вдохновляет оставшихся в живых.
Парадокс да и только! Человек, который всю свою жизнь жертвовал только на то, чтобы избежать братоубийственной фитны, уже стал участником трех таких сражений. И во всех трех сражениях он одержал победу, или одержал бы победу, если бы его послушались воины в Сиффине, но он так и не смог избежать растущего чувство отвращения к себе. И разве этого он ждал двадцать пять лет? Ведь он так стремился повести Ислам к единству, а что получил взамен – убийства мусульман? «С тех пор, как я стал халифом, — говорил он своему двоюродному брату, — все обратилось против меня, все стремятся умалить меня. Если бы не стремление мое восстать против несправедливости и угнетения, я бы бросил бы эти узы лидерства, и весь этот мир, окружающий меня, стал бы столь же неприятным, как сопли козы».
Тем временем Муавия делал все, чтобы умалить роль Али. Правитель Сирии пользовался каждым моментом, каждой возможностью, чтобы тем или иным образом унизить халифа. Пройдет время и Муавия с нескрываемым удовлетворением скажет: «После Сиффина я воевал с Али без войска и силы».
Третейский суд, о чем договорились стороны Сиффинского сражения, собрался лишь через год. Весь год стороны занимались обычными дипломатическими заморочками: согласованием повестки, определением размера и состава делегаций с каждой стороны, координацией в вопросах времени, места и формата проведения встречи. Местом встречи выбрали небольшое поселение между Куфой и Дамаском. И когда все вопросы были оговорены и стороны наконец-то встретились, настал черед еще одной горечи.
Муавию представлял Амр ибн аль-Ас, полководец, под предводительством которого был завоеван Египет. Амра за эти заслуги наградили тем, что он стал правителем Египта. Для встречи с ними Али очень хотел выбрать своего начальника штаба, полководца, который, если помните, в свое время вызвался отвезти Муавию в пустыню и оставить там его глазеть на тыльную сторону того, о лицевой стороне которого он и понятия не имеет. Но окружавшие Али люди настояли на другой кандидатуре, предложив стареющего Абу Мусу. Последний был человеком, который спорил так рьяно, что им следовало бы убрать копии и зачехлить луки перед сражением Верблюда. «Фитна как язва разъедает нашу общину, — говорил он тогда, — а теперь это язва пожирает нас». Они вспомнили эти слова. Это не важно, что этот Абу Муса «клинок тупой и мелкий», человек, которым изощренным умам легко манипулировать. Все рядовые отметили, что он «предупреждал нас о том, в чем мы уже находились». Они бы не приняли никого другого.
Встреча продолжалась две недели. В конце встречи Амр и Абу Муса выступили с совместным заявлением. По мнение Абу Мусы они согласились на отличный компромисс: Будет проведена шура, на котором Али провозгласят халифом, а Муавию правителем Сирии. Вот, о чем сообщили сотням собравшимся на заключительной встрече. А затем пошел обман!
Когда настал черед выступить Амру, тот заявил, что старик ошибся. Он и его старый друг Абу Муса действительно согласились на шуру, но не с целью утверждения Али халифом, а с целью утверждения халифом Муавию. «Настоящим подтверждаю халифом Муавию, — заключил Амр, — как истинного халифа, наследника Османа и мстителя за его кровь».
Среди собравшихся пронеслись проклятия, вспыхнули кулачные бои и конклав распался в еще большей суматохе, чем в самом своем начале. Абу Муса бежал в Мекку, где он прожил все свои дни в уединении и молитвах, полностью потеряв иллюзии, которые он когда-то питал к общественной деятельности, Амр же возвратился в Дамаск, чтобы объявить Муавию халифом.
На дворе стоял 658 год. Исламская империя вошла в период двоевластия. Исламом правили халиф и анти-халиф, кто как их называл. Шансы против Али были выше, чем когда-либо, и из-за принципиальной настойчивости Али на выравнивании доходов от Ислама, шансы Али должны были стать еще выше.
Влиятельные богачи, предводители племен уже привыкли к тому, что они считали льготами своего положения. Без этих льгот, они были открыты к тому, что Муавия называл «использованием меда» — подслащиванием горшка. Поэтому когда Али отказался от сделок с богатеями, он заплатил за это дорого. Даже один из сводных братьев Али, разъяренный тем, что ему отменили ежемесячное вознаграждение, был подкуплен и перешел на сторону Муавии.
Но были и другие варианты использования меда.
Муавия давно присматривал за Египтом, где приемный сын Али, Мухаммед Абу Бакр, — сводный брат Аиши, оказался слабым правителем. Али сам с сожалением признавал, что тот был неопытным юнцом. Когда пришло известие, что Муавия отправляет Амра захватить Египет, Али отправил одного из своих опытных полководцев поддержать оборону северных областей Египта. Вместо того, чтобы отправиться в Египет по суше, через Палестину, дабы избежать людей Муавии, полководец Али решил достичь берегов Египта морским путем. Но то было просто самообманом. Когда корабль достиг Египта, его встретили с большой долей гостеприимства. Начальник таможенного поста, уже изрядно «подслащенный» Муавией, предложил обычный медовый напиток в знак приветствия.
Яд убил полководца в течение нескольких часов. Позднее Амр скажет: «У Муавия вся армия в меду». Яд не имеет никакой героики сражения. Работает яд тихо и выборочно, можно сказать, незаметно. Для Муавии яд был идеальным оружием.
Личный врач Муавии, Ибн Уталь, христанин, известный алхимик, был экспертом по отравам, как и его наследник, Абу аль-Хакам, тоже христианин. Сейчас нет следов их трудов, зато можно найти Книгу о ядах Ибн Вашии, написанную им в девятом веке в качестве руководства для своего сына.
Книга Ибн Вашии состоит из трех разделов, посвященных биологии, алхимии и суевериям. На протяжении веков этот труд отражал современное состояние этих наук. Одна из глав книги посвящен звуковым отравам. Считалось, что определенные звуки при определенных обстоятельствах могут убить человека. Может быть подобное и устрашало Аишу, когда та услышала вой собак в Хавабе. В другой части книги показано использование различных органов змей, скорпионов и тарантулов, и даже самых безобидных существ, которые могли быть использованы в отравлении. Если не сказать больше, то двадцать третье средство для отравления яд , к примеру, приводил к смерти от ботулизма. Яд готовился из крови «дряхлого верблюда», которую смешивали с его желчью, далее добавлялось корневище морского лука, нашатырь. И все это погребалось в навоз осла и оставлялось там в течение месяца, пока «смесь не станет затхлой и не покроется паутиной». Два грамма этого вещества в пищу или в напиток, и смерть спустя три дня гарантирована.
Если требовалась более быстрая смерть, в ход шел цианид, извлекаемый из косточек абрикоса, с запахом слабого миндаля, что можно было добавить в финиковый сок или в смесь козьего молока и меда. Были и травяные яды, как, например, белена и смертельный паслен. Самым любимой отравой было растение борец. Его намазывали на лезвие меча или кинжала. Небольшое проникновение и яд быстро распространялся вместе с кровотоком по всему телу жертвы. К концу седьмого века алхимики Дамаска разработали «порошок наследства» — прозрачный мышьяк без запаха и вкуса, который можно было добавить в напиток и ускорить процесс наследования. Имея такой арсенал «вооружений» можно было понять Муавию, который хвалился, что победит Али без всякого оружия. Мед работал на Муавию и продолжал свое смертоносное действие, подслащивал ли он им других или просто составлял отравы.
Сирийское войско быстро и легко захватило Египет. Мухаммед Абу Бакр послал небольшой отряд к границам Египта, но оказавшись в меньшинстве отряд был разгромлен. Увидев это, оставшая часть войска или бежала, или же перешла на сторону сирийцев. Самого Абу Бакра выследили, и схватили его, одинокого и полуживого от жажды в пустыне. Сирийские воины отомстили ему за Османа, за то, что он повел убийц на третьего халифа ислама. Игнорируя приказ взять его живым, они привязали Абу Бакра к трупу гниющего осла, а затем сожгли его. Есть несколько версий: одни утверждают, что он уже был мертв, когда его подшивали к ослу, другие говорят, что он был жив и был заживо сожжен.
Али был в замешательстве от этих вестей. В еще большем замешательстве была Аиша. Эту женщину словно связывали узы тесного родства со своим сводным братом, Мухаммедом Абу Бакром, так она долго держала траур по его смерть – так долго, что своим этим поведением подтолкнула одну из жен Мухаммеда, коллеги Аиши по сану Матери правоверных, послать ей «дар соболезнования» из свежезапеченной ножки ягненка, погруженного в кровавые соки. Сопровождающее этот дар послание гласило: «Вот так сварили твоего братца». По собственному утверждению Аиши, она так была впечатлена этим «даром», что на всю оставшуюся жизнь она не прикасалась к мясу.
Итак, Али потерял Египет. Но тут воспряли хариджиты, которые привлекали в свои ряды тысячи новобранцев по всему Ираку и Персии. Многие города сменяли своих правителей, новые главы вообще отказывались платить налоги Али в Куфу. Многие сирийские отряды стали нападать на иракские поселения и тем самым усиливали настроения населения, которое видело, что Али даже не может обеспечить мало-мальскую безопасность. Даже Аравия подверглась нападению Муавии, который послылал своих карателей в Мекку и Медину, и далее в Йемен, где тысячи сторонников Али были казнены. Али уже не мог заставить свое когда-то непобедимое войско к действиям. Деморализованные, казалось, бесконечной гражданской войной люди Али не повиновались ему. «Изнурены наши стрелы, — говорили они, мечи отуплены, копья отработаны».
Тот, кто совсем недавно слыл среди всех прочих своим красноречием, нынче свел себя к преследованию своих воинов, ругая их как трусов. «Вы, куфийцы, только в мирное время кажитесь львами, — говорил Али с кафедры мечети, и хитрые лисы, если вас призывают к войне. Да погибнут ваши матери от ваших рук! Призываю вас помочь братьям в Мекке и Медине, а вы булькаете словно верблюды с отвисшей челюстью, плещущиеся в воде. Если вы услышите о сирийских всадниках, выступающий против вас, каждый из вас прячется у себя дома, запрет свою дверь, как это делает ящерица в своей норе. Тот, кто доверяется вам, обманывается. Тот, кто становится за вас, становится за бесполезной рухлядью. Вы наполнили сердце мое гноем, вздыбили грудь мою от гнева. Клянусь Богом, познав вас, я познал лишь горе и печаль. Если бы я не стремился лечь костьми за дело Бога, то я и дня бы не остался с вами».
В действительности, оставалось совсем немного, всего несколько дней.
Случилось это пред рассветом в пятницу, 26 января 661 года, в середине месяца Рамадан, в Куфе. Али направился в мечеть, что совершить предрассветную молитву. Он не заметил вооруженного человека, спрятавшегося в тени основного входа в мечеть, как над ним взметнулся меч. В тот же миг он услышал, исходящий из уст убийцы: «Только Аллах может рассудить, Али! Только Аллах!». Убийца ударил мечом в голову Али, сбив халифа с ног. «Не дайте ему уйти», — закричал Али. Верующие выбежали из мечети и схватили убийцу. Разум Али оставался ясным, даже когда кровь текла по него лицу. Окружающие начали паниковать по этому поводу. «Если я выживу, — произнес Али, — то я сам воздам ему ответ. Если же погибну, то нанесите ему ответный удар. Никого не убивать, кроме него. Не стоит окунаться в кровь мусульман, говорящих: «Повелителя правоверных убили!». И не стоит наносить увечья этому человеку, ибо я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Избегайте нанесения увечий, даже бешеной собаке».
На следующий день убийцу казнили. Рана Али по сути не была смертельной, но меч был отравленным, и яд сделал свое дело.
Хасан и Хусейн омыли тело своего отца, протерли его травами и миррой, обернули его в три слоя одежды. Затем по завещанию Али, они погрузили тело отца на его любимого верблюда и отпустили его. Сорок лет тому назад ровно таким же образом поступил Посланник Аллаха, когда отпустил своего верблюда и тот определил место строительства мечети в Медине. А сейчас нужно было определить ровно так же место захоронения Али.
Полдня верблюд бродил медленно, он знал, что за груз лежит на нем, и был очень этим опечален. Лишь в шести милях от Куфы, на голой песчаной местности – а это означает по арабски «наджаф», сыновья похоронили своего отца, которого будут почитать мусульмане всего мира как первого шиитского Имама ислама и последнего из четырех правоверных халифов суннитского ислама.
«Сегодня они убили человека в самый святой день, в день сниспослания Корана» . – произнес старший сын Хасан, стоя у могилы. – Если Пророк посылал его на выполнение поручений, то по правую руку Али всегда был ангел Джабраил, а по левую руку – ангел Микаил. Клянусь Богом, никто до него и никто после него не опередит его.
Пройдут года и на месте захоронения Али будет построен храм, вокруг этого храма появится город Наджаф. Каждый раз, когда храм восстанавливают, он становится еще краше, и сегодня златой купол и минареты, возвышающие над городом, манят паломников аж за двадцать милей. К концу двадцатого века Наджаф был так велик, что близлежащая Куфа стала немногим больше чем пригородом у реки. Тем более благоразумно поступил Муктада ас-Садр, председатель Армии Махди в современном мире, когда он принял не мечеть в Наджафе, а мечеть в Куфе как свою родную кафедру для проповедывания. Этим он взял дух не убитого Али, а живого Имама. Проповедуя там, где когда-то проповедывал Али, Мугтада взял на себя роль нового выразителя чаяний угнетенных.
Но Наджафу суждено было стать первым из двух священных городов Ирака. Пока халиф Муавия внедрял свою неоспоримую власть, второй город представлял из себя безымянную полосу каменистой пустыни в пятидесяти милях от Наджафа. Пройдет двадцать лет, когда на этой полосе сын Али, Хусейн, встретит свою судьбу. Эту полосу назовут Карбала, «местом испытаний и лишений».
ЧАСТЬ 3 ХУСЕЙН
Глава 12
Утром 9 сентября 680 года небольшой караван отправился из Мекки в Ирак. Во главе каравана шел младший сын Али, Хусейн. 19 лет прошло с тех пор как он вместе со старшим братом Хасаном похоронили своего отца на той самой песчаной возвышенности рядом с Куфой. Потом они совершили длительное путешествие через северную Аравию и возвратились в горы Хиджаза. Хусейн терпеливо ожидал и видел, как Муавия соединял в своих руках власть над империей. Муавия умер, и Хусейн намеревался возвратить халифат тому, кому он принадлежал, Ахл уль-Бейту, Дому Мухаммеда.
Раскол, который начался со смертью Мухаммеда и принял очевидную форму вокруг личности Али, переходил в третье поколение. Он должен был перерасти в ощущение чудовищной несправедливости, глубина которой дошла до наших дней и не видно ему конца.
Хусейну было 54 года, что явно было выражено во внешности. Должно быть, его борода была, по крайней мере, с прожилками седины, рот и глаза имели четкие, глубокие очертания. На рынке Ирана и Ирака вы можете увидеть портреты Хусейна, на которых он выглядит, как необычайно красивый мужчина лет двадцати. Волосы ниспадают до плеч, а борода полная, мягкая, ни одного седого волоса. Лицо светится молодостью, а темные глаза излучают мягкий свет. Они решительны, грустны и в то же время уверены в себе, словно в них отразились все радости и страдания всего мира.
На западе Иисуса часто изображают в более мускулистой форме, и на самом деле сходство поразительно. Если Али можно назвать фундаментом шиитского ислама, то Хусейн – символ мученичества. История о том, что случилось с Хусейном, когда он достиг Ирака, станет Страстями шиизма – его эмоциональным и духовным стержнем.
Тем не менее, глядя на караван, спускающийся с возвышенности и продвигающийся по пустыне, беспристрастный наблюдатель мог бы одним взглядом сказать, что караван был обречен на неудачу. Если целью каравана было вернуть халифат, то численность людей была неадекватной поставленной задаче. Караван двигался медленно, сюда входили женщины и дети семьи Хусейна, всего семьдесят два вооруженных воина для защиты и всего несколько коней, привязанных к поводьям верблюдов.
Тем не менее, караван шел, уверенный в том, что по прибытии весь Ирак восстанет под знаменем Хусейна. Сначала эта уверенность казалась оправданной. После смерти Муавийи и восхождения на престол его сына Язида в Дамаске последователи Али отправили столько писем Хусейну за восемьсот миль, что они заполнили две большие седельные сумки.
Торопись, Хусейн, — призывали в письмах эти люди. – Люди ждут тебя, и думают только о тебе. Требуй свое законное право, как истинный наследник Пророка, его внук, его плоть и кровь через мать Фатиму. Верни власть туда, где она должна быть, в Ирак. Мы выгоним сирийцев под твоим знаменем. Мы вернем дух Исламу.
Основным было письмо от Муслима, двоюродного брата Хусейна, кого он отправил в Куфу, чтобы подтвердить приверженность населения Ирака идеалам Ахл уль-бейт . У меня есть двенадцать тысяч людей, готовых присоединиться к тебе, — писал Муслим. – Приезжай, чтобы создать здесь войско!
То было весточкой, который Хусейн ждал уже девятнадцать лет со дня смерти отца.
Али в тот день был не единственной целью атаки хариджитов, так поговаривали. Ходили слухи, что хариджиты планировали убить Амра в Египте и Муавию в Сирии. Но Амр был болен в тот день – по слухам у него были проблемы с желудком – и поэтому удар мечом настиг не его, а его подчиненного. А сирийский убийца хоть и нашел свою цель, но промахнулся. Острие меча прошлось по ягодицам Муавийи. Муавия лишь немного пострадал. Некоторые поспешили заявить, что Али убили любимым оружием Муавийи, а именно ядом, нанесенным на меч. Но они быстро и однозначно замолчали.
Ходила даже история о том, что убийца убил Али из-за любви: чтобы завоевать любимую женщину, отец и братья которой были хариджитами, убитыми сторонниками Али при Нахраване. Я не выйду замуж за тебя, пока ты не исполнишь самое заветное желание, гласит история. – Три тысячи дирхемов, верблюда, поющую девушку и смерть Али сына Абу Талиба. Присутствие этой поющей девушки в составленной ею списке явно придавала истории романтизм, но те, которые напали на Амра и Муавию, не были вовлечены в подобные истории. Но это не имело значения, было намного безопасней обвинять в смерти Али хариджитов, да и только.
Убийство создает на какой-то миг героя. Любые прошлые грехи не только прощаются, но и совершенно забываются. Каждое слово перетолковывается в свете утраты, и каждая политика, когда-то казавшаяся ошибочной, после смерти кажется единственной верной. Политическую жизнь преследует ощущение того, что могло бы произойти, ощущение идеального мира, который мог бы существовать, если бы не было бы этого убийства. Так есть сегодня, так было в Куфе седьмого века. Одним ударом меча прервалась жизнь Али и уничтожила все сомнения насчет него. Человек, которого преуменьшали при жизни, после смерти был вознесен на самый высокий уровень, почти на равный с Мухаммедом.
Отравленный меч был в руках хариджита, но чувство возмущения куфийцев подпитывалось убежденностью, что за этим делом стоит Муавия. Али был прав с самого начала, говорили куфийцы, он призывал нас к тому, от чего мы решительно отказывались, к тотальной войне с Муавией.
Тогда они явились в мечеть, чтобы принести присягу верности Хасану и попросили его повести их в бой против Сирии. Но несмотря на страсти, кипевшие вокруг Хасана, старший сын Али был реалистом. Он принял присягу куфийцев из-за чувства долга, но считал это бременем, нежели чем честью. Хасан знал, что война была бессмысленной затеей. Сирийская армия намного лучше подготовлена и оснащена, чем капризное иракское войско. Кроме того, мысль о том, что надо будет продолжать гражданскую войну, вызывало в нем чувство отвращения.
Он помнил завещание своего отца, высказанное им на одре смерти, когда яд медленно и верно распространялся по кровеносным сосудам: Не стремитесь к миру, даже если он стремится к вам. Не оплакивайте ничего из утраченного вами. Стремитесь к гармонии и совершенству. Избегайте фитны и раздоров. Али привел цитату из Корана: Не бойтесь обвинения кого бы то ни было больше, чем боитесь Бога.
Сыновья последовали этим советам. Хасан возложил на своего отца ответственность за предание принципов, которые Али проповедывал. Али позволил себя втянуть в горнило гражданской войны, Хасан не мог его простить за это. Он восхищался Османом за его веру в Ислам. Хасан был глубоко потрясен тем, как безжалостно убили стареющего третьего халифа. Хасан раскритиковал решение своего отца предоставить амнистию всем убийцам Османа и смотрел с ужасом на кровопролитие с тех пор. Война была последней, чего хотел Хасан, и Муавия благодаря его огромной сети знал об этом.
Хитро понимая, что перо может быть таким же сильным, как и меч, Муавия посылал Хасану несколько тщательно аргументированных писем о том, что он признает духовное право Хасана на халифат, но он, Муавия, больше соответствует выполнению этой функции. В этом неопределенном мире я старше тебя, более опытный, более мудрый в мирских отношениях. Он единственно способен обеспечить безопасность границ от хариджитского террора, гарантировать нерушимость границ империи. Он славил Хасана за его ученость и набожность, славил его как внука Пророка, но эпоха требует сильного правителя, человека опытного, деятельного, но не человека интеллекта.
И как делал Муавия на протяжении всей своей жизни, он подсластил сделку с Хасаном, предложив ему огромную выплату из Иракской казны и в придачу обещал Хасану, что после своей смерти он передаст правление Хасану.
Хасан был искушен. Он понимал, что воин из него никудышный, посему стремился к миру и спокойствию своих дней, которые он посвящал чтению в мечети. Он также видел непостоянство окружавших его людей. Он наблюдал, как иракцы принижали его отца, заводя его при каждом удобном случае в тупик. Если они теперь считают Али высшим идеалом, то они также быстро могут поменять мнение о нем. И пока Хасан раздумывал над предложением Муавийи, за него все решили иракцы.
Надо сказать, что Хасан не был столь выдающимся оратором, как его отец. Малозаметный дефект в его речи заставлял его говорить медленно, монотонно, без ударений на то или иное слово. В нем была серьезность, но не было искры. Было ясно, что в его проповедях не было для собравшихся того, что они хотели услышать, в них было то, во что проповедующий верил: верховенство великого джихада – пожизненной борьбы с самим собой, дабы стать идеальным мусульманином – над меньшим джихадом или вооруженной борьбой. Если куфийцы считали позором бежать от войны, он говорил им «стыд лучше огня преисподней». Он не искал войны с Муавией, а довольствовался славным миром и желал общей амнистии за все кровопролития в прошлом.
Это были смелые слова, но обществом принимались как признак трусости. «Он слаб, растерян», — кричали куфийцы. – Он намерен сдаться. Нам надо его остановить. И человек, который не хотел ничего более чем, как предотвратить насилие, вдруг сам стал объектом этого самого насилия. Его собственное окружение ополчилось против него. Мятежники пошли на него, позволив себе рукоприкладство, стянули с него халат. Откуда-то появился нож, никто не знал, чей это был нож. Его ранили в бедро. Рана была неглубокой, но достаточной для пролития крови. И, вероятно, то, что рана была неглубокой, спасло жизнь Хасану. Он упал оземь. Вид пролитой крови отрезвил мятежников, и они поняли к какой опасной грани подошли, к грани еще одного убийства.
Если у Хасана до этой поры были какие-то сомнения, теперь они ушли прочь. Даже если бы он хотел, он уже не мог стать во главе войска, которое было способно обернуться против него. Отречение стало единственным выходом из положения. Предложение Муавийи казалось достаточно разумным. Он поклялся, что после него станет халифом Хасан. Хасан, должно быть, понимал, что если его отец Али сам ждал трех халифов, прежде чем самому стать халифом, то он сам должен теперь ждать смерти Муавийи.
Хусейн умолял брата пересмотреть свое решение: — Молю тебя, братец, внимай словам Али, а не Муавийи. Любимым приемом Муавийи является обман, говорил Хусейн. Ничего хорошего не может выйти из переговоров с этим человеком, какое значение имеет его обещания. Но младший брат редко влияет на старшего, да и кроме того нанесенная рана Хасана убеждала его в правильности сделанного вывода.
Он все еще хромал, когда поднялся на кафедру мечети в Куфе, и в последний раз воззвал к собравшимся: О люди Ирака, вы принесли обет верности мне, поклялись, что любой мой друг является вашим другом. Соблюдайте свой обет: я считаю верным заключить мир с Муавией и принести ему обет верности, ибо то, что щадит кровь, лучше того, что ее проливает.
После того, как Хасан завершил свое выступление, наступило молчание. Молчание длилось, пока Хасан не спустился с кафедры и не вышел из мечети. Он повелел брату подготовиться к длинному путешествию в Медину и сделать это без промедления. Он с благодарностью в последний раз посмотрит на Куфу.
Кто мог его обвинить? Шииты? Нет. В шиитском исламе Хасана почитают как второго имама, праведного наследника Али, а значит и Мухаммеда. Да, он отказался от правления империей, но более важно то, что духовная власть была неоспоримо за ним. Хасан, как сказывали тогда, поверил не в мирскую власть, а в саму веру. Хотя были и такие, которые намекали на денежный посул Муавийи.
Нет достоверной информации, сколько он получил из казны Ирака. В таких ситуациях подобных сведений не бывает. Одни говорили пять миллионов серебряных дирхемов, сумма, которая выглядела достаточной, чтобы в Медину возвратился довольно зажиточный человек. Хусейн оказался прав насчет Муавийи. Хасану недолго было суждено довольствоваться вознаграждением Муавии.
Муавия, теперь уже неоспоримый пятый халиф, вступил помпезно в Куфу . Он дал куфийцам три дня, чтобы те принесли ему обет верности, даже не стал говорить о том, что может произойти, в случае если они откажутся. И куфийцы с большим воодушевлением в первый же день дали обет верности.
И если они это сделали не с сердцем, то в этом был их меркантильный интерес. Если некоторые обвинят их в непостоянстве, то другие сказали бы, что это прагматично. Наконец, появился та самая сильная личность, которого они так жаждали. После разговоров Али о единстве, Муавия был тем, который смог достичь единства, но не силой веры и принципа, а более «приземленных» методов.
После пяти лет гражданской войны закон и порядок брали вверх. Империя, находившаяся на грани распада, была спасена. Муавийе было суждено еще править девятнадцать лет. Когда Муавийе умрет, а смерть его имела естественные причины, что уже можно назвать политической стабильностью, один из его сторонников назовет период его правления периодом жезла и клинков арабов, с помощью которых Бог предотвратил раздор. Какой бы ни была роль в создании этого раздора, эта роль не была панегириком для него.
В Куфе уже Муавия, который говорил, что «он не знает ничего лучшего, чем булькающий родник на спокойной земле», убеждался в этом. Он наслаждался властью, порой допуская иронические, во многих отношениях довольно современные замечания. Говорят, что однажды, когда Муавия наблюдал за прибытием в Дамаск каравана полного арабскими скакунами и рабынь с Кавказа, он удовлетворенно вздохнул, подумав, хорошо, что халифатом правит он. -Да пожалеет Бог Абу Бакра, произнес он, -ибо он не искал мира, как и мир не искал его. Мир искал Омара, но он тоже не возжелал его. И тогда этим миром воспользовался Осман, и мир воспользовался им. А я лишь наслаждаюсь этим миром.
Муавия не упомянул Али, исключив его из своих рассуждений, словно он просто списал Али с истории. Но на тот момент история наверняка казалось ему написанной. Его изощренный разум победил возвышенно духовную природу Али. С самого начала Муавийе было ясно, кто победит кого, по меньшей мере, кому достанется мирской успех. Одному доставались пыль и шипы, другому наблюдать за рабынями из Кавказа и чистокровными скакунами.
Ирак может и представлял проблему. Они хоть и поклялись в верности, но Муавия не мог полагаться на их клятвы. Да, это были те же самые иракцы, которые поклялись в свое время Али, а затем отвернулись от него, затем поклялись Хасану и тоже отвернулись от него. Муавия был полон решимости, нет, не подумайте, что его решимость была направлена на обеспечение лояльности иракцев. Муавия был не настолько глуп ожидать подобного. Он был полон решимости продолжать политику покорения в отношении Ирака. Все, что для этого было нужно, это назначить правильного человека на пост губернатора. И если куфийцы были рады видеть своим правителем Хасана, а тот покинул Куфу, то вскоре они изменили свои взгляды.
Муавия назначил Зияда, немолодого полководца, известного своей жесткостью, правителем Ирака. Зияда звали Ибн Абихи «сыном своего отца», так как найти его отца был вопросом спорным и увлекательным. Шли упорные слухи, что Зияд являлся незаконнорожденным сыном Абу Суфйана, отца Муавийи. Другие сказывали, что его мать была наложницей Абу Суфйана. Третьи шептали, что мать Зияда была христианкой, а Зияд был сыном «голубоглазой матери». Но никто не называл его Ибн Абихи, если только никто не хотел быть сожженным заживо, распятым или четвертованным. Зияд отменно знал, как следует довести до населения, даже самого непокорного, свою мысль.
Вступая в новую должность он сказал куфийцам: — Пощадите свои руки и языки, и я пощажу свою руку и свой язык. Клянусь Богом, столько потенциальных жертв гуляет среди вас, так что будьте благоразумны, не попадите в их ряды».
Куфийцы ответили чувством уважения, вызванного страхом. После войн и волнений при правлении Али, Зияд по крайней мере обеспечивал им безопасность. Как вспоминал один из куфийцев, фактически он заставил куфийцев повиноваться ему. Если кто-то из людей что-либо ронял на дороге, никто из других не прикасались к этой вещи, пока сам хозяин не обнаружит пропажу и не возвратится за ней. Женщины ночью не запирали дверей. И если кто-то осмеливался украсть даже небольшую веревку, Зияд моментально узнавал о краже и находил преступника.
Ровно таким образом итальянцам нравилась диктатура Муссолини в тридцатые годы прошлого столетия, когда диктатор обеспечил своевременное хождение поездов. Так и иракцы седьмого века приспосабливались к режиму Зияда. Даже хариджиты утихомирились, опасаясь мести. Цена такой безопасности была очень страшной. Зияд создал сеть тайной полиции, которая отслеживала не только украденные веревки, но и ростки мятежных настроений. Он, как и обещал, был бескомпромиссен в борьбе с врагом. Коллективные формы наказаний – выкорчевывание садов, конфискация земли, разрушение домов родственников подозреваемых, были безжалостны и результативны. Он требовал, чтобы люди следили друг за другом и доносили друг на друга.
-Пусть каждый сам спасает свою шкуру – приказывал он. – Дайте мне знать о нарушителях спокойствия, разыскиваемых халифом Муавией. Составляйте их списки, и вас не тронут. С того, кто откажется сотрудничать со мной, будет снята защита, кровь и собственность таких людей отныне будет халяль.
Со своей тайной полицией, сетью доносчиков, жесткими репрессиями Зияд был похож на другого диктатора, которому было суждено править Ираком четырнадцать столетий спустя. Речь идет о Саддаме Хусейне, сунните, который правил над шиитским большинством. Если шииты тосковали по Али, то это было их проблемой. Он не мог контролировать их сердца, но он контролировал их каждое действие. Зияд был таким же беспощадным и непоколебимым как Саддам.
Преследуя свою цель Муавия назначил своего человека в Ираке, и он не боялся, что Зияд пойдет против него. Он обеспечил полную свободу своему новому правителю, одарив его наименее дорогим, но очень щедрым жестом: он публично признал Зияда законным сыном Абу Суфйана и своим сводным братом. Таким образом с Зияда было снято клеймо бастарда, он стал представителем благородной семьи. Поэтому когда Зияд умер, а он стал жертвой чумы, на его место законно пришел его сын Убайдуллах, племянник Муавийи. И вполне естественно, что на этом поприще Убайдуллах проявился себя сыном своего отца.
Муавийе теперь было спокойно на душе: Ирак всецело покорен, шииты подавлены, торговые пути безопасны и надежны, налоги поступают в казну с земли, охватывающей в те времена не только Ирак, но и Алжир на западе и Пакистан на востоке. И только одно обстоятельство мучило его: это то, что он обещал Хасану назначить своим преемником. То было необходимостью того периода, одним из уступок, скажем так, мудрого политика, который понимает на что идет, но также осознает, что обстоятельства меняются со временем. В конце концов, ценность великого правителя измерялась его преемниками и механизмом передачи власти, история давала понять, что только основание династии, династии Омеййядов, может сделать власть прочной и незыблемой. Таким образом, после себя он должен был оставить своего сына Язида.
Династические амбиции Муавии были четко направлены на изменения в халифате. С династией, как формой передачи власти, согласны все, и сунниты, и шииты. Протодемократический импульс, в первые годы Ислама, связанный, в первую очередь, с довольно грязными проделками шуры, худо-бедно основывались на консенсусе. Так вот, этот импульс уже стал уходить в историю. Как византийский деспотизм взял на вооружение христианство, так и омейядский деспотизм стал прибирать к своим рукам ислам.
Муавия уже стал коронованным халифом, совершив переворот в Иерусалиме, где он взял на себя бывшую роль Византийского императора и стал попечителем христианских святилищ. Многие из приближенных халифа были христианами, как Ибн Утал, личный врач Муавийи, Мансур ибн Сарджун, дед Иоанна Дамаскина. Влияние Византии было слишком очевидным. Халифат должен был стать монархической империей с наследственной передачей власти, в халифате должны были просматриваться вырожденные формы Персидского и Византийского государств, и Язид, казалось, идеально подходил в эти формы. Язид был образом избалованного отпрыска, пьющим, ведущим распутный образ жизни. Он был полной противоположностью тому, что называют исламским идеалом. Хасан однажды назвал его выпивохой в шелковых одеждах. Даже Зияд, который был не против стать преемником Муавийи, предупреждал, что Язид человек беспечный, нерадивый, увлекающийся только охотой. Сын Муавийи казался кем-то вроде добрым парнем техасцем, который готовится стать землевладельцем, унаследовав землю от отца.
Но, как и отца, сына нельзя было недооценивать. Муавия никогда не назначил бы его в качестве своего наследника. Может быть, Язид и увлекался алкоголем, но оказался неплохим администратором и довольно способным полководцем. То, что он не соответствовал исламским идеалам, отходило на второй план. Муавия не готовил своего сына, чтобы увидеть его на кафедре в мечети, он готовил его для трона.
На каждый выпад Муавия рассуждал таким образом: в чем разница между претензиями Муавийи и Ахль-уль-Бейта на халифат? Разве эта претензия не базируется на одном и том же принципе кровного наследия? Разве вопросы духа, а наряду с ним и вопросы внешних признаков и родовой фамилии не могут передаваться по рождению? Разве сын пятого халифа не имел таких же прав на трон, как и сын четвертого халифа? Тем более, если этим решением Муавия мог сохранить стабильность в империи. Кроме того, этим своим решением он не собирался отнимать власть у рода Мухаммеда, у Ахль уль-Бейта – да, но не у Мухаммеда. А разве род Мухаммеда ограничивался Ахль уль-Бейтом? А разве сам Муавия не являлся шурином Мухаммеда? А разве Умеййады не имели родовых связей с родом Мухаммеда? Дед Муавийи Умейя приходился двоюродным братом деду Мухаммеда, таким образом Муавия и Язид приходились внучатыми двоюродными братьями Мухаммеду. Да, они находились на другой ветви родословной, но родословная была-то одна.
Как и случилось, Муавийи не нужно было идти на этот прецедент. Все решилось и без него, ибо Хасан умер в возрасте сорока шести лет. Сунниты скажут, что смерть Хасана была естественной. Шииты скажут, нет, Муавия справился с Хасаном с помощью своего излюбленного оружия – отравленного медового напитка. Шииты скажут, что Муавия нашел уязвимое звено в окружении Хасана. Яд был добавлен в напиток Хасану совершенно неожиданным человеком – одной из жен Хасана – Джаадой. Она вышла замуж за человека, который, как она полагала, должен был унаследовать халифат после Али. Она полагала, что родит сыновей, будущих наследников халифата. Но хотя у Хасана было много сыновей от других жен, у Джаады их не было. Не осуществилась и другая мечта Джаады – стать супругой халифа империи. После отречения Хасана Джаада оказалась в доме почтенного, но маловлиятельного проповедника на задворках Медины. Может, это и сподвигло ее на мысль о том, что если муж не может стать халифом, то им может стать кто-то другой. По всей вероятности именно по этой причине она согласилась на предложение Муавийи.
Муавия обещал ей щедрое вознаграждение – не только деньгами, но и предложением выйти замуж за Язида, человека, которого он хотел объявить своим наследником, раз Хасан уже сошел с пути. И так как Муавия всегда сдерживал данное им слово, то она с удовольствием получила денежную часть своего вознаграждения. А что касается сына…когда сделавшая себя вдовой женщина попыталась претендовать на вторую часть вознаграждения, Муавия ответил кратко и действенно: «Как я могу женить своего сына на женщине, которая отравила своего мужа».
Второго имама шиитского ислама похоронили на главном кладбище Медины, хотя он завещал иное место для себя. Он просил похоронить его рядом с дедом, под комнатой Аиши во дворе мечети. Процессия направилась к мечети, но путь ей преградили наместник Муавийи и отвел ее на главное кладбище. Понятное дело, что Муавия вовсе не желал видеть Хасана, похороненного рядом с Мухаммедом, Муавия очень хорошо был осведомлен о силе храмов и святилищ. Еще один фрагмент подобного принуждения заключается в обвинении еще одной противоречивой личности. На протяжении лет после сражения верблюда Аиша превратилась в старейшину мединского общества, стареющая вдова улаживала споры, устраивала браки, и всякий раз когда ей было нужно, она вдруг обращалась к своим воспоминаниям о Мухаммеде и таким образом заставляла всех исполнять ее желания. Она, казалось, примирилась с прошлым . Но когда до нее дошло, что процессия с телом Хасана движется к мечети, все старые обиды вновь обрели силу в ней.
Сын ее заклятого врага Али будет лежать рядом с Пророком? Он будет лежать под полом комнаты, которая принадлежала и принадлежит только ей? Она этого не могла позволить. Она повелела оседлать серого мула и поскакала, чтобы перехватить на полпути процессию. Проскакав по узким переулкам, она настигла процессию и остановила ее. Эта комната – моя собственность,- произнесла она, — я не дам вам разрешения на похороны Хасана. Толпа скорбящих остановилась, количество людей начало расти, в большей степени предчувствуя противостояние. Некоторые выступали за Хусейна, который стоял у носилок брата во главе процессии. Другие поддержали Аишу, которая твердо сидела на муле, не внушая особого оптимизма. Один из ее племянников даже попытался сострить: Ой, тетушка, не успели умыть свои бороды после битвы рыжего верблюда, как на горизонте уже маячит серый мул? Спор становился напряженным, появилась опасность физического насилия. И тут высказался Хусейн, который стремился сохранить лицо у всех присутствующих лиц. Правда, произнес Хусейн, мой брат попросил похоронить его рядом с дедом, но при этом добавил, если вы не убоитесь зла. Зло намеревалось возникнуть в результате борьбы на похоронах, поэтому Хусейн повелел повернуть процессию в сторону кладбища и похоронить Хасана рядом с ее матерью Фатимой. Так было и сделано. Никто не понял, это было сделано в результате повеления Муавийи или обвинения Аиши, но возложить вину на Аишу являлся отличным способом отвлечь людей от Муавийи. Лысого неудержимого правителя Матери правоверных отныне нельзя было назвать человеком безупречной репутации.
Пожар все еще пылал, но только вспышками. Однажды Аиша, когда Муавия, прибыв в Медину, нанес ей визит вежливости, спросила халифа: А ты не боишься, что однажды я отравлю тебя в знак мести за убийство моего сводного брата Мухаммеда Абу Бакра? Именно он рассказал эту историю, добавив лаконично известное выражение: никогда не было такого вопроса, что бы он не был закрыт мной, а открыт Аишей, или не был открыт мной, а закрыт Аишей.
Даже принудительно выйдя на пенсию, Аиша вызывала уважение, хотя и сдержанное.
Настали для нее годы, когда она занималась тем, что в принципе делают, выйдя на пенсию: по существу она писала или, по меньшей мере, диктовала мемуары. Она ведала истории из своей жизни с Мухаммедом, многие из которых воплотились в хадисы – сведения о высказываниях и делах Мухаммеда, которые образовали сунну, занявшую второе место в исламе после Корана. Аиша ведала истории вновь и вновь, каждый раз уточняя их, и если кто-то указывал на то, что ее воспоминания противоречили друг другу, она принимала тактику современных политиков. Она заявляла, что в прошлом она говорила неверно, а сейчас ее слова верны. Или принимала еще одну схожую тактику: просто отрицала то, что говорила раньше. Тем не менее, выход на пенсию успокоил даже ее. В последующие годы после смерти Хасана Муавия превратил халифат в монархию. Аиша, казалось, сожалела о том, что пошла оружием на Али. Я неверно себя повела, признавалась она, стараясь сторониться от политики, довольствуясь тем, что к ней шли посетители, ей наносили дипломатические визиты, окружали дарами и лестью. Но она должна была понять, насколько бессмысленным было все происходящее вокруг нее. Когда-то она была в центре ислама, сейчас она осталась на его задворках.
Менялись времена, менялась империя, и Аише не оставалось ничего, как принять роль живого памятника.
Что еще хуже, находились и те, кто предпочел бы видеть ее мертвой. Среди политиков, навещавших ее в Медине, был и Амр, правитель, назначенный Муавией в Египте, бывший полководец халифа, не скрывавший своих мыслей и говорящий напрямую. Аиша прекрасно знала, что Амр говорит за Муавию и за себя, когда он как-то высказал ей в лицо, что лучше было бы для всех, если бы ее убили в битве верблюда. И когда она спросила как же это так, ответ был страшно прямой и неожиданный: Потому что тогда ты бы погибла на вершине славы и вступила бы в рай, а мы объявили бы твою смерть результатом самого позорного действия Али. Сказав это, он покинул Аишу, у которой застыл на устах вопрос, который так будет портить ей всю оставшуюся жизнь. Аиша всю жизнь представляла себя фактической королевой Ислама, а что же теперь получается, она является пешкой в чьей-то игре?
Муавия официально объявил своего сына Язида преемником. Он не стал говорить о Хусейне, уверенный в том, что с Хусейном он сможет сделать то же самое, что сделал в свое время со старшим сыном Али. Если отец согласился на третейский суд, а старший отрекся от престола, то с какой стати Хусейн поступит иначе? И на самом деле, на протяжение десяти лет правления Муавии, Хусейн молчал. Он знал, каково быть терпеливым. Муавия контролировал все вокруг. Лишь возраст был неподвластен ему.
Подагра и ожирение, обусловленные образом жизни, сказали свое слово. Даже если в последние дни своей жизни он старался подчеркнуть свою энергию. Опираясь на подушки, он спиртом протирал участки вокруг глаз, пытаясь придать им выразительность, смазывал лицо маслами, чтобы оно сияло от энергии. Но если тщеславие было спутником последних дней Муавийи, то чувство набожности тоже начинало в нем преобладать. Он завещал, чтобы его похоронили в рубашке, которую ему подарил сам Мухаммед, рубашке, которую Муавия хранил наряду с обрезками ногтей Мухаммеда. Измельчите эти ногти и посыпьте им пои глаза и рот. Может быть, Бог простит меня своим благословением.
Он умер, в мыслях о Хусейне, рядом Язидом. Его последние слова Язиду гласили: Хусейн слаб, не играет важной роли, но народ Ирака заставит его бунтовать. И если это случится, и ты одержишь победу над ним, прости его, ибо он близкий родственник Пророка и на нем право.
Послушайся Язид отца, может быть и можно было избежать столетия раздоров и дробления. Однако так или иначе, историю зачастую творит невнимательность.
22 апреля 680 года Язида провозгласили халифом. Чтобы укрепить свое положение, Язид переутвердил Убайдуллаха, сына Зияда, на пост правителя Ирака, в надежде на то, что этот человек сумеет подавить мятеж. В то же время Язид повелел своему наместнику в Медине арестовать Хусейна. Действуй стремительно, чтобы тому не оставалось ничего делать, как принести мне обет верности, повелел Халиф. – А если он откажется, покончи с ним.
Но этот наместник, который так рьяно выполнял повеления Муавии, повел себя не так с Язидом. Предотвратить тот факт, чтобы Хасана похоронили рядом с Мухаммедом – это одно, а убить Хусейна, единственного из оставшихся в живых внуков Мухаммеда, это было уже за гранью дозволенного. Дайте мне все богатства в мире, всю власть в мире, и даже в этом случае я бы не смог бы этого совершить, — сказал он.
Может быть, даже сам наместник или кто-то из его окружения предупредили Хусейна об опасности. Все, что мы знаем, это то, что под покровом ночи Хусейн собрал всех своих родственников и бежал из Медины в Мекку, преодолев двести пятьдесят милей. Тогда и начали курьеры, измученные долгой поездкой из Куфы, приносить ему письма, один за другим, в которых его просили приехать в Ирак, умоляли спасти иракцев от жестокости и несправедливости Язида и наместника Убайдуллы, призывая его вернуть халифат и дух Ислама. А потом пришло и самое убедительное письмо от двоюродного брата Хусейна, в котором говорилось, что двенадцать тысяч человек готовы восстать под его руководством. Ответ Хусейна и стал началом глубокого раскола между шиитами и суннитами в душах мусульман. В сентябре 680 года третий имам, сын первого имама и брат второго имама, отправился из Мекки в Ирак, со своей семьей и семидесятью двумя вооруженными воинами. Он не знал, что движется навстречу смерти, что не пройдет и месяца, как ему будет суждено войти в историю повелителем мучеников мира.
Глава 13
Шииты утверждают, что Хусейн твердо знал, на что идет. Позиция шиитов заключается в том, что Хусейн знал, полностью осознавал жертву, которую он должен был принести собой. В конце концов, он должен был об этом знать. Многие предупреждали его осмертельной опасности, которая ждала его, были те, которые предостерегали его еще до поездки, в которую он отправился со своей семьей и семьюдесятью двумя воинами.
«Разве куфийцы из тех, кто способны восстать и свергнуть своих угнетателей? - рассуждал один из двоюродных братьев Хусейна. – Это люди, которых всегда можно было бы купить. Они рабы дирхемов. Боюсь, брат, они бросят тебя, а, может быть, и вовсе пойдут на тебя войной».
Хусейн хладнокровно относился к этим предупреждениям: «Клянусь Богом, о брат мой, я понимаю, совет твой хорош и разумен, - отвечал он. – Однако написанному на роду обязательно сбыться».
И все же, почему же Хусейн бросил столь дерзкий вызов судьбе? Почему вопреки многим предостережениям он решился на этот шаг? Уже на исходе первого дня его долгого путешествия прискакал гонец с посланием от другого двоюродного брата. «Богом прошу, Хусейн, - говорилось в послании, - вернись в Мекку. Может быть, сердца иракцев и с тобой, но мечи их, боюсь, в руках у Йазида». Хусейн просто принял к сведению эту весть и продолжил свой путь в Куфу.
На другой день пришла еще одна весточка, на сей раз от правителя Мекки. Рискуя своим положением, а, может быть, и жизнью, сей смелый муж заверил Хусейна в «безопасности, доброте, щедрости и опеке», если только он возвратится в Мекку. Но на все эти сообщения у Хусейна был один ответ: «Лучшая гарантия безопасности – сам Бог».
Численность отряда Хусейна стала расти. Когда небольшой караван пересекал рубежи изрезанных холмов Хиджаза и вступал в степи северной Аравии, каждую ночь они разбивали лагерь у водных источников, будь то колодец или, по меньшей мере, речушки. Вести об их путешествии доходили до жителейтех местностей. В отряд начали вливаться кочевые воины, грезившие мыслью возвратить власть Ислама в Аравию. К концу первой недели трехнедельного путешествия отряд уже насчитывал несколько сотен воинов. Когда они дошли до границ Ирака, их уже смело можно было назвать войском.
Предостерегающие Хусейна вести продолжали поступать. Но каждый раз Хусейн благодарил за «хороший и разумный совет» и пренебрегал им. Наконец, прибыл гонец с посланием, которое просто нельзя было игнорировать.
Прибытие гонца было столь стремительным, чтоза мили можно было увидеть клубы пыли.В этот раз гонец был не из тыла, как было не раз до этого, а из самого Ирака. Отряд собирался было разбить очередной лагерь для ночевки, как появился этот самый гонец, спешился и даже отказался от воды – такой безотлагательной была принесенная им весть.
Писал двоюродный брат Хусейна Муслим, который ранее звал Хусейна срочно выступить и явиться в Куфу. Он объяснял это тем, что все жители Куфы готовы принести присягу верности Хусейну и объявить его истинным халифом. Куфийцы, в действительности, поклялись восстать и свергнуть ставленника Йазида Убайдуллаха, поэтому они звали Хусейна возглавить их поход на Дамаск, чтобы покончить с узурпатором Йазидом и объявить Хусейна единственным преемником деда Мухаммеда и отца Али. Так и было, сказал гонец, но все вдруг поменялось.
Чрезмерная преданность Муслима Хусейну послужила ему плохую службу. Если он с большей осторожностью отнесся бы к присягам верности, принесенным куфийцами с показушным рвением, то, наверное, сумел бы разделить зерна от плевел, словесные клятвы от истинной решимости. Происходящее вокруг вскружило Муслиму голову, и он поверил тому, чего так хотел.
Куфийцев не в чем было винить. Они тоже надеялись на лучшее. Они хотели, чтобы явился Хусейн и покончил с несправедливостью и угнетением. Но ведь надежды бывают не только вдохновляющими, но и мимолетными. Куфийцам было что защищать, было за что жить, у них были семьи, о которых надо было заботиться. Увидев краешком глаза превосходящую силу, они сразу же признали ее.
Правитель Куфы, сын печально известного Зияда, Убайдулла, не только пошел по стопам отца, но и собирался его превзойти. Как и любой тиран в отведенное ему время, Убайдулла осознавал всю опасность этих надежд, и прекрасно понимал, как с ними расправиться. Понятное дело, что перед Убайдуллой не стоял вопрос о том, допустить ли Хусейна в Куфу, или отпустить ли Муслима из Куфы живым. Он для себя их решил давно.
«Вы, что, самоубийцы, - обращался онк куфийцам. - Если только я узнаю, что вы приютили у себя Муслима, вы тотчас же вкусите мой кнут». Этот кнут сопровождался пряником: щедрым вознаграждением за голову Муслима.
Никто в Куфе нисколько не сомневался, сколь больным будет кнут Убайдуллы. Людей, которые шли против воли правителя Куфы, по обычаю казнили на рыночной площади. Тела несчастных оставались пригвожденными к крестам и гнили. Дома их семей сравнивали с землей, семьи выгоняли в пустыню. Под этой потенциальной угрозой двенадцать тысяч людей, которые неистово во всеуслышание клялись в верности Муслиму, сократились сначала до четырех тысяч, затем до трех сотен, а потом и вовсе до горстки. Не прошло и суток, как Муслим оказался в полном одиночестве.
Он стучался в дома куфийцев, просил у них убежища от стражников Убайдуллы. Одна из семей приняла Муслима в свой дом. В тот миг получивший приют и не сомневался в том, что приютили его только потому, чтобы передать в руки стражников и получить взамен вознаграждение.
В тот же вечер стражники явились в этот дом и схватили Муслима. Правда, Муслим успел убедить одного из храбрецов выехать из Куфы и донести Хусейну пренеприятную весть о случившемся. «Проси их вернуться, - передавал Муслим. – Скажи им, что если куфийцы предали меня, то предадут и его».
Гонец уже был в пути, когда схваченного Муслима заковали в цепи и бросили к ногам правителя. Судьба Муслима, какие могли быть сомнения, была предрешена. Вечером в понедельник 8 сентября 680 года надежда поднять куфийцев на восстание против режима была окончательно похоронена. На рассвете 9 сентября, когда Хусейн с небольшим караваном выступил из Мекки в Ирак, безглавое тело Муслима приволокли на рыночную площадь и выставили на всеобщий обзор.
Именно об этом поведал гонец Хусейну. Не успел он окончить свой печальный рассказ, как присоединившиеся кочевые воины начали медленно исчезать в предрассветном мраке, оставив Хусейна вместе с семьей и семьюдесятью двумя воинами. Миссия Хусейна, казалось, подходила к концу, даже не начавшись. История умалчивает о том, постигла ли Хусейна в тот самый миг мысль повернуть обратно.
«Мужчина странствует в темноте, и его предназначение движется ему навстречу», - произнес Хусейн и продолжил свою поездку.
Никто не оспаривает случившееся, оспаривают лишь причины случившегося. Что думал в тот момент Хусейн, остается для нас загадкой.
Почему он продолжил свою поездку, зная, что его сторонники отнюдь не среди победивших? Почему он был так сильно убежден в своей правоте, что даже горькие реалии не отрезвили, а наоборот, ослепили его? Может быть, причиной всему этому был насб - врожденное чувство благородства и чести, заставляющее думать человека о триумфе праведности предпринятого им дела? Что это, благородство, граничащее с наивностью? Акт отчаяния или чистота помыслов? Полнейшая глупость или в высшей степени мудрость?
Хусейн не был ни воином, ни чиновником. Он был почтенным ученым, довольно известным после смерти брата Хасана, как человек, который более чем другие из живых воплощал собой дух Мухаммеда. К тому времени он был далеко не молодым. Почему этот человек не захотел прожить оставшуюся жизнь в мире и спокойствии Мекки и Медины? Почему он не пожелал оставить политику и власть тем, кто умел и ладил с ними? Почему он доверил свою судьбу куфийцам, тем самым людям, которые неполные двадцать лет тому назад отказались выступить против Муавийи под стягом Али, отца Хусейна? Тогда они покорились Муавийе и Зияду, а теперь Йазиду и Убайдулле. Неужели, Хусейн думал, что куфийцы изменились?Неужели он посчитал, что право и справедливость стоят выше власти и силы? Как можно было поверить в силу отряда из семидесяти воинов, которому противостояла вся мощь армии Йазида?
Для суннитов решимость Хусейна идти на Ирак является подтверждением его несоответствия сану правителя огромной империи. Они назовут это поведение Хусейна донкихотством, обреченным на неудачу поступком, шагом, который нельзя было совершать. Хусейн, по мнению суннитов, должен был принять реалии и склонить голову перед историей.
Порой они начнут цитировать антишиитские высказывания Ибн Таймийи, ученого тринадцатого века, произведения которого все еще находятся в центре суннитской мысли. Лучше жить шестьдесят лет с несправедливым правителем, чем одну ночь с неэффективным, говорил Ибн Таймийя. Довод ученого основывался на том, что без эффективно действующего государства реализация исламского пава была бы невозможной. Он рьяно утверждал, что религия и государство, были едины во времена Мухаммеда, а затем начали отделяться.
Именно Ибн Таймийя назвал первых четырех халифов «рашидун», то есть правоверными. Их до сих пор так называют в суннитском Исламе. Последующие халифы тем самым считались неправоверными или не руководимыми Богом, независимо от того, какими красноречивыми они не были, какими титулами, как например, «Тень Бога на Земле», себя не удостаивали. Но даже те, в ком отсутствовала истинная духовная власть, могли служить Исламской общине. Муавийа предотвратил то, что казалось неизбежным расколом огромной Исламской империи; если бы не он, то Ислам мог бы просто погибнуть. В его сыне, Йазиде, не было того самого политического чутья, да и он и не претендовал на духовную власть просто потому, что не интересовался этим. Время его правления можно рассматривать довольно толерантным. Нельзя было ждать от политических лидеров духовного руководства, заявлял Ибн Таймийа, он защищал свою территорию. При Омейядах и Аббасидах был создан новый религиозный истеблишмент – священники и богословы, известные под названием улама, которые защищали Исламтак, какзащищали иудаизм раввины на протяжении веков. Самая идея выступления Хусейна в качестве духовной власти и божественного руководства была для Ибн Таймийи и его идеологических наследников анафемой.
Для шиитов же решимость Хусейна явиться в Ирак было высшим актом бесстрашия, благородным самопожертвованием, на которое Хусейн пошел в высшей степени сознательно, и полностью осознавая значимость своего поступка. Хусейн выбрал единственный путь, который полностью обнажил продажность и коррумпированность Омейадского режима. Хусейн поразил весь излишне самонадеянный мусульманский мир, позвал мусульман на истинный путь Ислама, под лоно назначенного Пророком руководства, руководства Ахль-аль-Бейта. Руководимый свыше, а также ведомыйчистыми внутренними помыслами он отдал себя в жертву, как это сделал пророк Иисус шестьсот лет тому назад – став святой жертвой, добровольно принесенной ради других. Жертва Хусейна станет высшим актом искупления.
История Хусейна становилась фундаментом шиизма, его краеугольным камнем, Страстями Хусейна, а его переход из Мекки в Ирак походил на прибытие в Гефсиманский сад. Зная, что куфийцы предали его, он шел с полным осознанием того, что ожидает его.
Спустя три недели его небольшой отряд находился в двадцати милях от Куфы. На ночь этот отряд разбил лагерь в местечке Гадисийа, где когда-то Омар одержал победу надперсами. Теперь эта славная победа казалась совсем чужой, принадлежащей другой эпохе, а ведь только сорок три года прошло с тех пор. На этот раз ключевому сражению не суждено было сбыться. Убайдулла послал свои конные отряды, которые преградили все пути, ведущие в Куфу, в том числе и дорогу из Гадисийи. Приказ Убайдуллы был таков: схватить Хусейна, заковать его в цепи и привести к Йазиду, чтобы Хусейн принес тому присягу верности.
Черед цепям еще не настало. Даже Убайдулла не мог устрашить всех. Командира отряда, состоящего из ста человек, который должен был остановить продвижение Хусейна, звали Хурр – «рожденный свободным» или «свободный человек». Как человек соответствующий своему имени, он не мог себе представить, что можно использовать силу против внука Пророка и его семьи. Он, повернув свой щит обратной стороной, подошел с мирными намерениями к Хусейну. Он попытался, как и многие другие до него, убедить Хусейна, что если тот не желает приносить присягу верности Йазиду, то ему лучше будет просто повернуть обратно в Мекку.
«Клянусь Богом, я не пойду на это, - ответил Хусейн. - Я не стану унижать себя, подав руку, и не убегу как раб. Меня зовут не Йазид. Я не могу принять унижение взамен достоинства». И чтобы показать свое достойное поведение, он привстал над седлом и обратился к людям Хурра, многие из которых когда-то клялись выступать с Хусейном против Йазида.
«Я храню два огромных поклаж с адресованными мне посланиями, – сказал он. – Ваши гонцы приносили мне ваши клятвы в верности мне. Если вы останетесь верными своим словам, то будете на правильной стезе. А если нарушите присягу, не будет вам удачи и предназначения, ибо нарушивший слово, уничтожит свою душу».
«С такими как Йазид и Убайдулла, - продолжал Хусейн, - праведность мира находится в опасности, праведное становится горьким. Разве вы не видите, как истине давно нет места в делах мирских? Разве не очевидно, что фальш не встречает более сопротивления? При этом жизнь с такими угнетателями есть горе и скорбь, а смерть - мученичество».
Теперь стало наконец-то понятным мотивы действия Хусейна: мученичество – шахадат – предназначение, к которому двигался Хусейн, и которое приближалось к нему.
Шахадат - это слово, отточенный смысловой оттенок которого с трудом нам дает различить двойной смысл джихада, когда образ исламского мученичества предстает в виде образа террористов-самоубийц, в такой степени ослепленных праведностью своих действий, что они жертвуют не только своей жизнью, но чувством человечности. В действительности, у слова шахадат есть два смысла – «самопожертвование» и «выступать свидетелем». В английском языке слово «martyr» («мученик»), если его перевести с греческого, тоже имел значение «свидетеля». Вот почему объявление о своей вере в Исламе – аналог израильской Шема Израэл или Молитвы Господа –тоже называют шахадой – «освидетельствованием». Двойственная роль мученика и свидетеля вдохновил ведущего архитектора-интеллектуала Иранской революции 1979 года назвать смерть Хусейна актом освобождения.
Али Шариати был практически неизвестен на Западе, но в течение многих лет он был на одной ступени в Иране с аятоллой Хомейни. Шариати не был священником, служил он профессором социологии, но имел обширные знания в богословии. Получив образование в Сорбонне, он читал труды по западной философии и литературе, переводил Сартра и Фанона на фарси. Особое место в его переводах занимал Че Гевара. В слиянии социологии и богословия он представал в виде Че Гевары. В этом же слиянии он создал новую форму исламского гуманизма, который вдохновил миллионы людей, попавших под харизму необычного ораторского искусства Шариати. К началу 1970-х он привлекал тысячи и тысячи своих поклонников, и эти люди блокировали подступы к аудитории, где он выступал в Тегеране. Люди молча слушали его, стоя перед громкоговорителями, а лекции становились бестселлерами. Студенты и рабочие, представители религии и светские люди, мужчины и женщины – все они скоро выйдут на улицы, чтобы смести шахский режим. Особую роль в этом напоре надежды людей сыграл можно сказать единолично сам Шариати, который привнес новый дух в шиитский ислам.
В одной из своих прославленных лекций он восславлял Хусейна как величайшего образца мученичества. Своим отказом сотрудничать с режимом, молчать под давлением, и принимая все это как свою собственную смерть, Хусейн достиг «революции человеческого сознания», то есть такого уровня сознания, который вышел за рамки исторического места и времени, стал «вечным, невероятным явлением». Погружая своих слушателей в события седьмого века, в размышления Хусейна, он и не нуждался в возведении параллелей с событиями репрессивного шахского режима.
«Ничто не препятствовало Хусейну унаследовать эту власть, - говорил Али Шариати, - ни армия, ни оружие, ни богатство, ни власть, ни сила, ни организованное преследование. Ничего! На всех уровнях общества сидели Омейяды. Власть тирана, усиленная мечом, деньгами и обманом, покрывают общество пеленой удушающего молчания. Вся власть – в руках деспотичного правителя. Ценности насаждаются только режимом. Идеи и мысли контролируются посредниками режима. Мозги промыты, начинены и отравлены ложью, представленной во имя религии, и если ничто из этого не срабатывает, в игру вступает меч. Вот с этой силой Хусейн должен был столкнуться.
С этой силой должен был столкнуться человек, который воплощал собой уничтоженные режимом ценности, символ выброшенных режимом на свалку идеалов. Он выступает с пустыми руками. У него нет ничего. Имам Хусейн стоит между двумя ограничениями. Он не может молчать, но и не в силах бороться. В руках у него осталось лишь одно оружие – его собственная смерть. И если он не может победить врага, то, по меньшей мере, может обесчестить его ценою своей жизни. Если он не сможет вернуть себе власть, то, как минимум, может ее проклинать. Для Хусейна мученичество не является поражением, для него оно есть выбор. На пороге храма свободы он падет жертвой и этим одержит победу!»
Как утверждал Шариати, шахадат становился не только актом освидетельствования репрессивности, угнетения, коррупции и тирании власти. Мученичество Хусейна не является концом, а представляется началом, призывом к выступлению здесь и сейчас.
«Мученичество, - говорил Шариати, - это единственная в своем роде жизненная сила. Именно эта сила является источником света и тепла в этом мире. Именно она является источником движения, видения и надежды. Своей смертью мученик проклинает угнетателя, предусматривает принятие обязательств для угнетенного, в обледенелых сердцах людей восстанавливает кровопоток жизни и воскрешение».
И эта жертва приносится не только ради Ислама. Ее приносят ради всех народов во всем мире. Хусейн выступил свидетелем «всех угнетенных народов в истории». Он заявил о своем присутствии во всех войнах, сражениях и битвах за свободу во все времена и на всех землях. Он погиб в Карбале, чтобы мог быть воскрешен во всех поколениях и во всех эпохах».
Шариати умер в 1977 году, за два года до того, как в его студентов, выступающих против тирании на улицах и площадях, полетели пули шахского режима. Причиной смерти Шариати объявили сердечный приступ. Он умер спустя три недели после своей ссылки в Англию. Одни утверждали, что неоднократные аресты и допросы шахской охранки наложили свой отпечаток, другие называли причиной подкожный укол и введение яда, убийство в стиле врача Муавийи Ибн Утала, практиковавшего четырнадцать столетий тому назад. Так или иначе, шах опоздал. Шариати сумел трансформировать образ Хусейна и его гибель в Карбале в революционный призыв.
На протяжении веков мученичество Хусейна станет центральной темой в шиитском Исламе, символом вечной борьбы между добром и злом, но Шариати поднял эту тему на качественно новый уровень богословия освобождения. Он преобразовал Ашуру, десятый день месяца мухаррам, из траура и скорби по убиенным в праздник надежды и подвижничества. Карбала больше не олицетворялся репрессиями, город становился вдохновляющим порывом к восстанию против тирании. Прославленный призыв Шариати к действию становился новым призывом шиизма, поддержанным молодыми революционерами на улицах Тегерана, стойко стоящими перед пулями войск иранского шаха: «Наш каждый день – Ашура, нам вся земля – Карбала».
И если Хусейн был полон решимости пойти на мученическую смерть, Хурр был не из тех, кто мог пойти на поводу. Он стал перед страшной дилеммой: с одной стороны он получил приказ от Убайдуллы, с другой стороны он был полон уважения к Хусейну. Ведь перед ним стоял последний свидетель той сцены, когда Пророк собрал свой дом под своей плащаницей. Перед Хурром стоял внук Пророка, его плоть и кровь. Если Хурр преградит ему путь в Куфу, никто не станет наступать на Хусейна.
Именно Хусейн разрешил дилемму Хурра: он решил изменить направление своего похода, но не назад в Аравию, и не на Куфу, а просто на север. Хусейн решил повести свой небольшой караван вдоль отвесного берега над огромной долиной, образованной Евфратом и Тигром. Хурр и его люди поскакали рядом, но не как конвой, а скорей, как охрана. На закате, караван с измученными усталостью и жаждой женщинами и детьми решили разбить лагерь. Хусейн повелел возвести шатры под отвесным берегом, с видом на орошаемые притоком Евфрата поля и сады. Была среда, первое число месяца мухаррам. Здесь они и остались, им не суждено было двигаться дальше. В этом месте и встретились Хусейн и его предназначение.
Не прошло и двух дней, как этот маленький караван окружило войско. Когда до Убайдуллы дошли вести, что Хурр не только не арестовал Хусейна, а дозволил ему пойти дальше, он послал ни много ни мало четырехтысячное войско из всадников и лучников под командованием известного своей безжалостностью полководца. Если Хурр не смог выполнить поручение, то этот человек был способен на это.
Звали его Шимр. Этому имени суждено будет жить в анналах шиизма наряду с бесславным рядом таких деятелей как Муавийа, Йазид и Убайдулла. Приказ Шимра был ясен. Окружить лагерь, отрезать все подступы к воде. В эту страшную, изнурительную жару ни одна капля воды не должна была достичь лагеря Хусейна. Жажда заставит Хусейна стать на колени.
Итак, четыре тысячи вымуштрованных воинов против семидесяти двух обреченных людей. Хусейна вынудили на этот шаг. В этот миг, когда он достиг своего конечного предназначения, он и все те, кто был с ним, сделают шаг из ограниченной временем истории в бессмертное царство героев и святых.
И те, кто выжил, и те, кто осадил лагерь, рассказывали в своих воспоминаниях о последующих семи днях. Они раскрывали почти величественный ряд событий, словно история эта разыгрывалась на значительно большей сцене, чем обездоленный участок песка и камня. Даже во время беседы свидетелей, оставалось ощущение святости, с которой ведали они об этих событиях, все истории теряли узы гравитации и медленно превращались в легенды. Пока Шимр и его воины ждали момента, когда жажда сделает свое дело, ограничиваясь лишь несколькими стычками с воинами Хусейна, создавались бессмертные воспоминания. Один за другим появлялись знаковые картины шиизма.
Одна история была про племянника Хусейна Касема, который был женат на дочери Хусейна, то бишь, на своей двоюродной сестре, в этом осажденном лагере. Зная, что их ожидает, эта пара праздновала победу жизни над смертью, будущего над прошлым. Но браку не суждено было сбыться. Не успела церемония завершиться, как Касема вызвали на поединок с врагом. То был днем его свадьбы. Он не мог отказать и вышел в свадебной тунике из шатра навстречу воинам Шимра.
Как вспоминали воины Шимра, нас было десять и все на конях, а этот юноша весь в белом вышел против нас с мечом в руках. Мы на конях окружили его и гарцевали вокруг него, а он нервно оборачивался вокруг. Я увидел два жемчуга, свисающих с мочек Касема и качающихся в ответ на его движения. В одно из мгновений жемчуги перестали качаться. Жених пал от удара меча и все грезы брачной ночи превратились в прах.
На шлеме Аббаса, сводного брата Хусейна, красовались два пера, они олицетворяли собой бесстрашие воина. Аббас не мог выдержать криков жаждущих детей и смог пробиться через шеренги противника к реке. Наполнив козью шкуру водой, он попал в засаду на обратном пути. Он боролся до последних сил с врагом, когда ударом меча ему отрубили руку. Глядя на истекающее кровью предплечье, он улыбнулся: «Вот почему Бог наградил нас двумя руками», и продолжил драться другой рукой. При этом он в зубах сжимал края козьей шкуры. Когда ему отрубили другую руку, никакая доблесть уже не могла спасти его. Меч, пронзивший сердце храброго воина, проткнула и шкуру, и покрасневшая от крови вода обагрила собой песчаную землю.
Среди осажденных был старший сын Хусейна – Али Акбар. Он был еще подростком, совсем юным пареньком. Но, несмотря на это, он попросился на поединок с врагом, только чтобы погибнуть как воин, а не от жажды.«Супротив нас стоял юноша с ликом подобным полумесяцу, - вспоминал один из окруживших его воинов. – Ремешок одной из сандалий, не могу вспомнить какой, правой или левой, был порван. Думаю, все-таки, левой».
Али Акбара быстро зарубили. Хусейн «пал как ястреб», чтобы прижать к груди умирающего сына. На шиитских плакатах так они и изображены, отец и сын. Позднее подобным образом изобразят
Мугтаду Садра, командующего армией Махди, обнимающего тело своего отца, Мухаммед Сади Ас-Садра, почитаемого священнослужителя, убитого вместе с двумя старшими сыновьями режимом Саддама в 1998 году.
Вероятно, самой знаковой сценой являлась сцена младенца Хусейна. Ему было три месяца от роду. Он был так слаб от обезвоживания, что не мог даже плакать. В отчаянии Хусейн сам вышел из шатра в руках с младенцем, чтобы все враги могли увидеть его. Дрогнувшим, изнуренным от жажды голосом он молил воинов Шимра дать возможность детям испить водицы. Единственным ответом была стрела, пронзившая шею младенца.
Кровь младенца капала сквозь пальцы отца на землю. И пока эти капли орошали землю, отец молил Бога о мести. Истории эти пересказывают из поколения в поколение, порой привнеся в них свою логику. Утверждают, что Хусейн молил бога не о мести, а о милости. «Бог мой, - говорил он, - будь моим свидетелем, прими эту жертву!» В ответ кровь младенца, преодолевая силу тяжести, устремлялась ввысь и более не возвращалась на землю.
Настал вечер Ашуры, десятого дня месяца мухаррам, заключительного дня всей трагедии. Этот день подобен последней вечере у христиан. Хусейн молил оставшихся в живых воинов поикнуть его, оставить его наедине с судьбой. «Я освобождаю вас от уз присяги верности мне,- говорил он, - и нет на вас больше бремени. Возвращайтесь домой немедленно, под прикрытием мрака. Воспользуйтесь покровом ночи и спасайтесь на верблюдах! Людям Йазида нужен только я. Если они возьмут меня, они не станут вас преследовать. Молю вас, возвращайтесь в свои дома к своим семьям».
Но они остались. Изможденные, со спекшими от жажды губами, с изнуренными и огрубевшими голосами они поклялись никогда не покидать Хусейна. «Клянусь Богом, - сказал один из них, - если бы я знал, что меня сожгут живьем, а пепел разбросают вокруг, а после возрождения все это случится тысячу раз, даже в этом случае я никогда не покину вас. Как же я могу сделать это сейчас, когда передо мной лишь одиночная смерть?»
«Тогда призовите Бога, просите у него прощения, - сказал Хусейн. – Завтра настанет наш последний день». И далее он добавилизвестную исламскую фразу, которой часто пользуются мусульмане перед смертью: «Мы принадлежим Богу, к Нему и возвратимся».
Заключительная ночь казалась долгой. Она была ночью молитв и приготовлений. Хусейн снял с себя кольчугу и надел простое белое бесшовное одеяние – плащаницу. Он надушил себя и своих воинов миррой. Все вмиг поняли, что все эти приготовления делаются ровно так, как обычно мусульмане готовят тела умерших к смерти.
«Слезы текли из глаз, а я пыталась как-то избавиться от них, - вспоминала одна из дочерей Хусейна. –Я молчала и знала, что к нам приближается несчастье».
Слезы заразительны, почти физически. Будь в кинотеатре или в реальной жизни люди отбиваются от слез сочувствия, а затем обнаруживают, что их зрение было размыто, а бой уже проигран.
Шииты не борются со своими слезами. Напротив, они поощряют их. Горе и печаль являются для них признаками глубокой веры, явным выражением не только искупления и ужаса, но и постоянной убежденности в том, что слезы исчислимы, что у них есть цель.
Все эти десять дней, ведущих к Ашуре, каждая деталь трагедии, случившейся 1400 лет тому назад в Карбале, вспоминается и восстанавливается шиитами. Столь важная история вживую сохраняется год за годом, век за веком, и не на основе веления или приказа, а просто на основе памяти, обладающей столь страстной силой, на основе повторов и восстановления.
Каждый год разыгрывается тазия, сцены о страстях – их так много, и разыгрывают их на столь многочисленных «подмостках», что Страсти Христовы, разыгрываемые в баварском городке Обераммгау, являются лишь бледным отражением шиитского представления.
Темп почти величественен, диалоги и словесные выступления превосходят простой обмен фразами, и вряд ли какое-либо бродвейское или вест-эндского выступление может потрясти аудиторию, как это делают шиитские выступления. Каждый выход на сценуЙазида, Убайдуллы или Шимра в черном сопровождается шипением и гулом неодобрения. Юноша-молодожен прощается со своей целомудренной невестой и уходит на верную смерть. Над этой сценой многие зрители плачут. Хусейн держит своего младенца перед врагом, люди вокруг бьют себя в грудь, тихо вопят, словно подави они свои рыдания и не будет трагедии.
Кульминация этого представления, этих Страстей настает не в тот момент, когда Хусейна убивают, а тогда, когда он надевает белую плащаницу. Интересно то, что предыдущие сцены имеют сильное впечатление на западного зрителя, а эту сцену он ощущает не столь чувственно. Для шиитов же она самая невыносимая, самая трагическая. Эта сцена олицетворяет собой пример спокойствия перед лицом смерти, добровольным самопожертвованием.
Все первые десять дней месяца мухаррам, завершающих ашурой, ведут именно к этому моменту. Мужчины собираются в хусейниййе – специальномзале, где ведают историю Карбалы, и дают там волю слезам, размышлениям, скорби и медитации. Женщины собираются в других домах, где строят свадебный навес для дочери Хумейна и ее нареченного Касема, украшивают навес шелковыми лентами, сыпят на пол лепестки роз, создают брачное ложе, которому никогда не стать им. Они растягивают небольшую колыбель для трехмесячного сына Хусейна, заполняют ее конфетами, игрушками. Женщины молят Хусейна ходатайствовать перед Всевышним за них, за их детей и уберечь последних от наркотиков и насилия, любых других жизненных искушений и опасностей. Женщины плачут, бьют себе в грудь, по щекам, и напевают: «Хусейн, Хусейн, Хусейн, Хусейн!» все быстрей и быстрей, пока силы не покидают их.
Кульминация настает на десятый день, в день прощальных церемоний. Мужчины начинают шествие сотнями в деревнях, тысячами и десятками тысяч в городах. Целые группы мужчин одновременно бьют себя в грудь, их руки сжаты в кулак. Одновременные удары кулаком в грудь целых групп мужчин вызывают приглушенный звук. И с каждым шагом, с каждым ударом нарастающе звучат знаменитые: Шах Хусейн, Вах Хусейн… .
Даже если один человек будет бить себя в грудь и восклицать «Шах Хусейн, Вах Хусейн», это пробирает человека, что говорить о шуме многотысячной толпы, который можно услышать за много миль, шум громкий, как звон соборного колокола на Пасху, шум страшный от того, что исходит от плоти человеческой.
Есть и такие, которые заходят далеко – бьют себя не кулаками, а цепями. На кончике цепи подвешивают небольшие лезвии. Они бьют себя по спине, то через правое, то через левое плечо, до тех пор, пока спины не станут полностью окровавленными. Находятся и такие, которые пользуются ножами, делают порезы на лбу. Через эти порезы вниз по лицу течет кровь, которая перемешивается со слезами. Под этим зрелищем не устоит даже самый хладнокровный свидетель, его охватит ужас.
На протяжении всей процессии люди несут плакаты, большие, украшенные цветами, зеленые и черные шелковые знамена – зеленый цвет – это цвет Ислама, черный цвет – это цвет траура по убиенным.
На некоторых плакатах изображен Хусейн с кефиййей, ниспадающей до плеч, на других сцены из Ашуры. Там показывают склоненную назад голову Хусейна, кровь на его лбу, уста в предсмертной агонии. Показывают голову Хусейну, словно плавающую в пространстве, голову, нанизанную на копье.
И в центре каждой процессии ведут белую лошадь без всадника, лошадь Хусейна с пустым седлом.
Солнце неумолимо взошло в утро десятого числа месяца мухаррам, то бишь, 10 октября 680 года. Как только солнце набрало необходимую высоту над горизонтом и тепло, последний из семидесяти двух воинов Хусейна вышел на поединок с окружившим лагерь войском. Ко времени, когда Хусейн остался один в своем лагере, солнце уже стояло высоко в небе.
Он попрощался с женщинами из своего рода, вскочил на своего скакуна, которого нарек именем Лахик, Преследователь, и выехал из лагеря навстречу своей судьбе. Он наступал на вражеские шеренги и тучи стрел летели в него. Стрелы усеяли бока лошади Хусейна, но он все еще держался на ней. Он рубил своим мечом влево и вправо. Ему было нипочем, что он, один, боролся с четырехтысячным войском противника. «Клянусь Богом, я никогда не видел его таким, - вспоминал один из людей Шимра. - Пешие воины бежали от него, как козы бегут от волка». Так не могло продолжаться долго. «Чего вы ждете?»- кричал Шимр своим воинам. – Вы, сыны отцов, мочащихся с обоих концов! Вы сыны отцов, мочащихся с обоих концов! Убейте его, или пусть ваши матери погибнут от ваших же рук!» Одна из стрел попала в плечо Хусейна, и он упал с коня. Воины Шимра столпились над ним, нанося ему тридцать три удара кинжалом и один удар мечом. Но и это они сочли недостаточным. Словно пытаясь скрыть улики, они начали втаптывать безжизненное тело внука Пророка, последнего из пяти человек, кого Пророк взял под свою плащаницу, в пыль Карбалы.
В тот момент, то, что сунниты считают историей, стала для шиитов священной, аура святости охватит воспоминания о том, что случилось впоследствии. В ранних источниках отсутствуют сведения о трехлетней дочери Хусейна Сукайне, которая бродила по полю боя; там не рассказывают о слезах, вытекающих из глаз скакуна Хусейна и о внезапно появившихся двух белых голубях. Но кто может удержать миллионы шиитов, для которых Ашура – это то, что определяет их? В Страстях Хусейна, как и Страстях Христовых, подробностями стала обрастать история подобной глубины и масштабов.
Пройдет время, и те, кто помнит, начнут говорить о том, как Лахик, этот самый доблестный скакун из всех арабских скакунов, склонится и окунет свой лоб в кровь своего хозяина, а затем вернется в женский шатер. С глаз скакуна начнут вытекать слезы, и он начнет биться головой об землю, выражая этим скорбь по Хусейну. Они расскажут о двух белых голубях, невесть откуда прилетевших и макнувших крылья свои в кровь Хусейна, а затем взявших курс на юг, сначала в Медину, а потом в Мекку, с тем чтобы их увидели там и прознали о событиях, и чтобы раздался плач скорби. Они поведают,как трехлетняя Сукайна бродила по полю боя в поисках своего отца, и посреди окровавленных тел горько оплакивала его.
Со временем не имело значения, реально ли Аббас дрался с врагом одной рукой, реально ли конь плакал или голуби прилетали с небес. Вера и потребность подтверждали это. Истории становились истинными как неопровержимый факт, если не более, ибо смысл этих событий был очень глубок. Как и смерть Христа, смерть Хусейна вышла за рамки истории и перешла в метаисторию. История эта вошла в сферу веры и вдохновения, эмоциональной и религиозной страсти.
Люди Шимра отрезали Хусейну и его семидесяти воинам головы. Большую часть отрезанных голов они погрузили в мешки, которые повесили на шеи своих лошадей. Каждая из голов отныне становилась доказательством, и сулило вознаграждение от Убайдуллы в Куфе. Голову Хусейна выделили особо. Шимр повелел нанизать ее на копье и нести как трофей перед войском. В Сиффине таким образом был осквернен Коран, в Карбале сотворили то же самое с Хусейном.
Шимр оставил тела убитых на съедение гиен и волков. Женщин и детей он заковал в цепи и повел их в Куфу, прямо сзади головы Хусейна.
Убайдулла, посмеиваясь, смотрел на то, как воины вываливали головы поверженных воинов на каменный пол перед его троном. Он даже ткнул своей тростью одну из голов и заставил ее покатиться по каменным плиткам. При виде этого один из пожилых свидетелей не выдержал, невзирая на опасность. «Побойся Бога, убери свою трость, - воскликнул он. – Как часто я видел, как Посланник Бога целовал эту голову, которую ты оскверняешь!». Весь в слезах он хромая направился к выходу из зала, когда стражники задержали его. И здесь старик не выдержал и воскликнул толпе, собравшейся у дворца: «Один раб дал власть другому рабу, обеспечив народ наследством. Вы, арабы, после сегодняшнего дня рабы. Вы убили сына Фатимы по приказу ублюдка-правителя. Вы приняли стыд и унижение. Да разрушится жизнь тех, кто принимает унижение».
Злость и недовольство старика проникли в сердца людей. Еще не прошло пятидесяти лет со дня смерти Пророка, как людей из его рода стали убивать, а женщин брать в неволю. Чувство горького стыда распространялось по всей Исламской империи, и род Мухаммеда стали звать новым именем: Байт-аль-Ахзан, Обитель Горя. Постыдное, бесславное убийство в пустыне, как и не менее постыдное убийство на кресте шестьсот лет тому назад, станет не концом, а только началом.
Глава 14
Волки и шакалы не прикоснулись к трупам, как хотел этого Шимр. Когда он со своим войском и пленными покинули место трагедии, крестьяне из близлежащих деревень похоронили всех семидесяти двух обезглавленных воинов, пометили их могилы. Четыре года спустя, паломники – предшественники миллионов приезжающих на паломничество в Карбалу людей, начали прибывать на место резни, чтобы почтить память погибших в годовщину этих трагических событий. Именно первые паломники назвали эту местность Карбала, что в переводе означает «место испытания и скорби».
Трудно установить, где покоится голова Хусейна – наряду с распространением вестей об этой страшной резне, распространялись и слухи о месте захоронения головы внука Посланника Бога. Большинство утверждали, что голову похоронили у восточной стены Великой Мечети в Дамаске, другие утверждали, что голова захоронена в храме неподалеку от основного входа в Каирскую мечеть Аль-Азхар, были и такие, которые говорили, что ради безопасности голову перенесли и похоронили в Азербайджане. Находились и такие, которые заявляли, что голову вернули в Карбалу.
Но гораздо важнее физических останков была история, которая пережила века, и люди, которые пережили ее – женщины и девочки, а также один мальчик.
Аль Зайн аль-Абидин, взрослый сын Хусейна, никогда не принимал участия в военных действиях. Он лежал в женском шатре и не мог подняться с ложа. Он страдал сильной лихорадкой в тот период и не мог выйти навстречу врагу, как это сделали его друзья, родичи, отец. Когда Шимр и его люди ворвались в женский шатер, они заметили больного мальчика. Он, наверное, стал бы легкой и очевидной мишенью для этих не знавших жалости людей, но его спасла тетя Зайнаб, сестра Хусейна.
В ту роковую ночь Хусейн сказал Зайнаб: «Не дай Сатане отнять у тебя храбрость». Теперь настал тот миг, когда эта женщина проявила свое бесстрашие. Она бросилась на своего племянника, прикрыв его от удара мечом Шимра. «Убьеш его, убей и меня», — закричала она.
Шимр не смог поднять руку на внучку Пророка и повелел взять их в плен наряду с другими женщинами. Зайнаб оказалась не только той, которая смогла спасти единственного оставшегося в живых сына Хусейна, она стала источником воспоминаний о Карбале. Ее уводили в цепях, с разорванной одеждой и непокрытой головой, а она смогла сохранить в себе воспоминания об этом событии.
«О Мухаммед, Мухаммед, да благословят тебя ангелы Рая! – причитала она. – Вот Хусейн, весь в крови, с разорванными конечностями. О Мухаммед! Дочери твои невольницы, потомство твое уничтожено, восточный ветер дует над ними».
В Ираке всем известен этот восточный ветер. Он всегда приносит с собой песчаные бури, он является дыханием скорби и испытаний.
Даже люди Шимра, услышав эти причитания, стали каяться в содеянном. Или, по меньшей мере, один из них впоследствии признавался: «Клянусь Богом, ее причитания заставляли и друга, и неприятеля рыдать». Но несмотря на эти рыдания, воины Шимра подчинялись приказам своего командования. Убайдулла публично унизил пленников, проводя их через Куфу напоказ всему населению города. Только после этого зрелища, он решил выслать всех пленных, а также все отрубленные головы в Дамаск Йазиду.
Некоторые утверждают, что не Убайдулла, а сам Йазид ткнул тростью в голову Хусейна и посмеивался, когда голова катилась по полу у его ног. Другие заявляют, что он сердито выругался в адрес Шимра и Убайдуллы за то, что те слишком переусердствовали, выполняя его приказ. Совесть Йазида была пробуждена тем, что Зайнаб призвала его к ответу за содеянное. Она, закованная в цепи, с разорванной одеждой, вся в пыли и волдырях от долгого перехода, гордо стояла перед Омейадским халифом и публично позорила его: «Ты, твой отец и твой дед покорились вере отца моего Али, брата моего Хусейна и деда моего Мухаммеда. При всем при этом ты втоптал их в грязь несправедливо, унизил признанную тобой же веру».
На это Йазид сам расплакался. «Если б я был там, Хусейн, тебя бы не убили», — произнес он, и повелел освободить пленных, обращаться с ними как с почтенными гостями своего двора. На сороковой день после Карбалы, шииты называют этот день Арбаин или сороковник, он гарантировал женщинам и девушкам, а также выжившему сыну Хусейна защиту и отправил их с охраной обратно в Медину.
Не знаю, может быть, Йазид вспомнил слова своего отца на одре смерти: «Если победишь Хусейна, то прости его, у него большая претензия». Если это так, то он слишком поздно вспомнил о них. Опозоренный шиитами Йазид так и не восстановит свое реноме даже в памяти суннитов. Лишь малая толика мусульман будет скорбеть о смерти Йазида, когда тот погибнет три года спустя после Карбалы при подавлении восстания в Мекке, которое предпринял сын злосчастного Зубейра, двоюродного брата Аиши. Еще меньше людей будут скорбеть над смертью тринадцатилетнего больного сына Йазида, случившегося шесть месяцев спустя. И уж совсем никто не станет скорбеть о смерти Марвана, троюродного брата Йазида, провозгласившего себя халифом. Этот человек сыграл лицемерную роль на протяжении истории Ислама, начиная с халифата Османа и Али, и, вконец, заполучив вожделенное место халифа, к чему он так долго стремился. Только вот халифат у него оказался уж очень коротким. Не пройдет и года, как его задушит собственная жена.
Тем временем «фактор Карбалы», как станут его называть, быстро набирал силу. История, поведанная свидетелями в седьмом веке, получила новую жизнь в двадцатом веке.
«Религия – восхитительное явление, сыгравшее противоречивые роди в жизни людей, — говорил Али Шариати, харизматический оратор, заложивший интеллекуальный фундамент Иранской революции 1979 года. – Она может уничтожить или оживить, усыпить или пробудить, поработить или освободить, научить покорности или подготовить к мятежу».
Хомейни это понял своевременно. Как и Шариати, Аятолла сумл постичь тот факт, что Карбала – это символ, обладающий огромным зарядом, глубокий колодец эмоциональной, социальной и политической значимости, казалось бы, приспособленный ко времени и обстоятельствам. При шахском режиме, когда политические разногласия подавлялись тюремными заключениями, пытками и казнью, религия становилась языком прикрытия для протестных настроений и сил сопротивления. История Карбалы становилась образцовым носителем этих настроений. Сюжеты этой истории прорывали обычные ряды экономического и социального разделения и резонировали в речах и выступлениях священнослужителей и интеллигенции, либералов и консерваторов, городских марксистов и патриархальных крестьян.
«Пусть кровью омытые стяги Ашуры поднимутся ввысь там, где это возможно, в знаменование грядущего, когда угнетенные пойдут на угнетателей», — писал Хомейни в ноябре 1978 года, будучи в ссылке во Франции, об Ашуре, который попадал на 11 декабря того года, когда традиционные процессии шиитов превращались в мощное политическое оружие. Будучи под огромным давлением шах объявил на два дня военное положение и миллионы иранцев в ответ на призыв Хомейни зашагали по улицам с лозунгом – «Смерть Йазиду», который перекликался с новым лозунгом – «Смерть шаху!».
Сорок дней спустя, в день Арбаин, Хомейни вновь воззвал к фактору Карбалы, сравнив убитых на улицах от рук шахского режима с убитыми от рук воинов Йазида четырнадцать веков тому назад. «Кровь наших мучеников стало продолжением крови мучеников Карбалы, — писал Хомейни.Словно кровь наших мучеников стала продолжением крови мучеников Карбалы. Наш долг как мусульман и патриотов своей страны состоит в организации массовых шествий в этот день». Несмотря на законы военного времени история Карбалы вновь начала превращаться в средство самоорганизации масс, и вновь шахский режим открыл огонь по демонстрантам, увеличив ряды мучеников. В конце месяца шах покинул Иран и стал жить в ссылке.
Революция одержала победу, но многие усмотрели в этой победе месть. В течение двух месяцев провозгласили Исламскую Республику Иран и Хомейни объявил себя Верховным Руководителем. Либерльные мусульмане и светские интеллектуалы убедились в наличии другой стороны религиозной страсти, которой они помогли раздуться. Революция открыла путь теократии; требования свободы и справедливости привели к исламскому авторитаризму. Тысячу светских и либеральных активистов, силами которых случилась революция, были заточены в тюрьмы или казнены. Тысячи женщин скрылись за паранджой, и даже молодые женщины в чадрах с пистолет-пулеметами на улицах Тегерана, дружно называвшие себя «боевиками Зайнаба», были быстро приструнены режимом. Многие из учений Шариати вскоре были названы неисламскими, а его изображения, которые всегда появлялись на постерах и почтовых марках рядом с Хомейни, вскоре вовсе исчезли.
Историей Карбалы все еще пользовались, хотя и более продуманным, манипулятивным методом. В ирано-иракской войне 1980 года тысячи молодых бойцов Ирана с надписью на головных повязках «Карбала» становились «живыми миноискателями». Они шли на минные поля, взрывались, чтобы открыть путь для иранских войск, и каждый из них отчанно верил, что попадут мучениками в рай. В стан иранской армии приезжали певцы, исполнители причитаний по Карбале, самым знаменитым из которых был так называемый «Соловей Хомейни». Они вдохновляли солдат на самопожертвование. Хомейни пришел к власти, пользуясь фактором Карбалы, взял страну под свой контроль, укротил и подчинил себе население, о чем предупреждал Шариати.
Вновь проявившуюся силу Карбалы не так легко было контролировать в стране ее рождения, Ираке, где она вскоре связала не только прошлое и настощее, но также замахнулась на будущее.
Только один из пяти сыновей Хусейна выжил. Для шиитов этого было достаточно. Он будет четвертым из двенадцати Имамов, которых постоянно будут изображать на плакатах по всему шиитскому миру: все имамы восседают в форме «V» позади Али, являющегося главой Имамата. Власть, а вместе с ней божественное знание и благодать, переходит от отца к сыну. После Карбалы каждый из Имамов сначала отравляли по приказу Омейядских халифов, а впоследствии по велению их преемников Аббасидов. Каждый Имам изображен на плакатах, кроме последнего, двенадцатого, лик которого стерт с плаката. На месте лица присутствует белое птно, словно ореол был бы слишком ярким для глаз человека. Выживший сын Хусейна, его внук и правнук Джафар ас-Садик, положивший начало шиитскому богословию и проживший долгую жизнь в Медине, являются четвертым, пятым и шестым Имамом. Являлся ли яд причиной их смерти – это вопрос скорей веры, чем документов. Но ясно одно, после прихода Аббасидов продолжительность жизни Имамов резко сократилась.
Аббасиды вытеснили Омейядов спустя семьдесят лет после Карбалы, они же перевели столицу халифата из Сирии в Ирак. В 762 году они на берегу Тигра возвели великолепный город, столицу Халифата. Город образовывал идеальную окружность. Первоначально его назвали Мединат ас-Салам – «Город Мира», сегодня этот город известен под названием Багдад, что на фарси означает «дар Рая».
Кульминация была достигнута под правлением халифа Харун аль-Рашида, к концу восьмоговека, когда мусульманская империя растянулась от Испании до Индии, а Багдад стал центром необычайного расцвета искусства и науки. Математика вышла но новый уровень сложности; слово «алгебра» происходит из арабского языка. Литература переживала свой Ренессанс, особенно с появлением «Тысячи и одной ночи». Это произведение вышло во времена правления Харуна аль-Рашида. Оно представляло собой сборник отдельных историй. Но для шиитов этот период был довольно тяжелым.
Власть в империи захватили Аббасиды, которые имели прочную поддержку со стороны шиитов. Аббасиды считали себя потомками дяди Мухаммеда Аббаса. Если дядя Мухаммеда, скажем, прямо и не относился к Ахль аль-Бейт, но, как никак, был близок к нему, ибо являлся прямым родственником Пророка. Но в какой-то момент Аббасиды бросили оземь знамя шиитов. Шииты на это отреагировали с глубоким ощущением, что их предали. Чтобы противостоять этой изменнической политике Аббасидов, они отделились от них и разделились на два лагеря. Первый лагерь представлял собой непримиримую оппозицию, Зейдитов, Йеменское течение, которые считали, что Имамат завершился на семи Имамах. Вторым лагерем являлись Исмаилиты, которые изначально верили только в пяти имамов и боролись за власть. Одна ветвь Исмаилитов основала династию Фатимидов, которые построили Каир и правили Египтом с десятого по двенадцатый век. Другую ветвь возглавляет Имам Ага Хан. Но большинство шиитов продолжала верить в двенадцать Имамов, и следуя их примеру, уделяли большее внимание религиозной преданности, чем противостоянию суннитским халифам.
После Хусейна все Имамы избегали политическогоучастия и отдавали приоритет чистому богословию. Но Омейяды, если и могли игнорировать шиитов до той поры, пока последние безопасно сидели в Медине, Аббасиды не могли себе этого позволить, ибо существование шиитов для Аббасидов было большей угрозой. Род Аббасидов исходил из рода Мухаммеда и с этой точки зрения их претензия на власть противоречила всему и вся. Реальными центрами сопротивления и восстания всегда являлись Имамы. И если Омейяды, по всей видимости, позволяли имамам сидеть в Медине, Аббасиды, наоборот, приводили их насильно в Ирак, заточали в тюрьмы или сажали под домашний арест. Посему вполне вероятно, что каждого из Имамов отравляли.
Златокупольные святыни, которые так легко путают иностранцы, возведены над могилами Имамов – храм Имама Али в Наджафе, сдвоенные храмы-могилы Хусейна и его сводного брата Аббаса расположены в Карбале привлекают самое большое число паломников. Но посещаемость других храмов тоже поражают своей численностью. Седьмой и девятый Имамы похоронены в храме Хадимийе в Багдаде, восьмой Имам Рза похоронен в Мешхеде (Иран), десятый и одиннадцатый Имам похоронены в храме Аскарийя, что находится в Самарре, у побережья Тигра в шестидесяти милях к северу от Багдада.
Название Аскарийя переплетенос судьбой двух Имамов, захороненных там. Название это происходит от названия военного гарнизона или лагеря. Именно таким гарнизоном для Аббасидов, наподобие Пентагона, служила Самарра. Именно там содержали под арестом десятого и одиннадцатого Имамов, превратив их в аскаров, «содержащихся в лагере». Но храм Аскарийя имеет даже большую значимость в Шиизме, ибо как шииты говорят именно в Аскарийском гарнизоне родился двенадцатый Имам – последний наследник чистой кровной линии Мухаммеда через Фатиму и Али, центральная мессианская фигура Шиизма.
Каждый год справляют день рождения двенадцатого Имама, наподобие Рождества у христиан, и этот праздник является противовесом Ашуре. Этот праздник называют «Ночью желаний и молитв», ночью, когда в домах развешивают шары и гирлянды цветных лампочек, когда люди стучат в барабаны, поют и танцуют, когда на улицах разбрасывают конфетти и сладости, а в небо устремляются фейерверки. В эту ночь, как это видится, сбываются желания и молитвы, вот почему шииты в эту ночь не устремляются в Самарру, где родился двенадцатый Имам, а устремяются в Карбалу, куда по их поверьям он возвратится, в сопровождении Хусейна и Иисуса.
Двенадцатого Имама зовут Мухаммед аль-Махди: «ведомый Богом». Его часто зовут и другими именами, как, например, аль-Гаим – «Вознесенный», Сахиб-аз-Заман – «Хозяин Времени», аль-Мунтазар – «Долгожданный». Но большинство шиитов его знают под именем Махди.
Поговаривают, что он был единственным ребенком, родившимся в тайном браке одиннадцатого Имама и пленной внучки византийского императора. Это рождение хранили в тайне, чтобы Аббасиды не отравили ребенка. Но когда ребенку исполнилось пять лет, его отца, одиннадцатого Имама отравили. На дворе стоял 872 год. Поэтому потребовались более радикальные методы защиты. По вере шиитов в этом году Махди избежал судьбу своих предшественников, спустившись в пещеру под Самаррой.
Он не умер в этой пещере, а вошел в состояние «гайба», исчезновения, если перевести это слово буквально, и этот перевод совершенен в духовном контексте. С астрономической точки зрения исчезновение происходит тогда, когда одно небесное тело проходит между Землей и другим телом. Солнечные и лунные затмения происходят имено в результате этого явления, когда источника света не видно, но свет от него исходит по окружности, образуя светящуюся корону. Попросту говоря, гайб означает «скрытие». Поэтому Махди часто называют Скрытым Имамом.
Это скрытие не является постоянным. Это – временное состояние, приостановление присутствия в мире, а не отсутствие, и это состояние длится уже свыше тысячи лет. Махди появится в день Страшного суда, он возвратится на землю и объявит о появлении новой эры, эры мира, справедливости и победы над злом.
День и месяц его явления известны: десятый день месяца мухаррам, в тот самый день, когда Хусейн был убит в Карбале. Но вот год остается неизвестным. Именно его неизвестность предрекает неизбежность появления Махди, котоопая отчетливо проявляется в годы смуты.
В одном из цитируемых трактатов одиннадцатого века перечислены признакии предзнаменования, ведущие к возвращению Махди, многие из них знакомы по христианским апокалиптическим видениям. Природа ведет себястранным и зловещим образом: лунные и солнечные затменияв течение одного того же месяца, солнце встает на западе, а затем зависает на месте, звезда на востоке светится так же ярко, как полная луна, черный ветер, землетрясения, нашествия саранчи. Но хаос и беспорядкив природе суть зеркало хаоса и беспорядков в делах людей.
Силы неверующих распространятся повсюду. Огонь спустится с неба и сожжет Куфу и Багдад. Лже-Махди восстанут и пойдут кровопролитными битвами друг против друга. Мусульмане возьмутся за оружие, чтобы сбросить бразды правленияиноземных оккупантов и восстановить контроль над своей землей. Будет большая война, в которой будет уничтожена вся Сирия.
Многим все эти предзнаменования покажутся знакомыми на Ближнем Востоке. Иранцы сбросили бразды правления иноземцевреволюцией 1979–80 гг., осуществили первый захват заложников, а затем изгнали американцев, поддержавших щахский режим. Огонь спустился с неба в виде американской бомбардировки Багдада в 2003 году, захвата Ирака и кровопролитных сектантский сражений при вакууме власти, созданным вследствие этого захвата. Большой конфликт в Сирии направлен против Израиля, территория которого когда-то была частью мусульманской провинции Сирии.
Поэтому, когда Хомейни принял такой сильную антиамериканскую позицию и крепко схавтил власть в Иране, объявив себя представителем Махди и носителем его воли, не прошло много времени, как его самого назвали возвратившимсяв этот мир Махди. Не знаю, как распространяются слухи, в этом заключается природа самих слухов, но кажется разумным, что эти слухи начали распускать вполне заинтересованные стороны. Хомейни уже называли к тому времени «наследником Хусейна» или «Хусейном нашего времени», так что, скачок от третьего до двенадцатого Имама не представлялся чем-то удивительным. В действительности Хомейни взял бы титул Имама как естественного преемника двенадцати Имамов, ведь он никогда не подтверждал эти слухи, но и не опровергал их. Слухи утихли лишь со смертью Хомейни в 1989 году, когда его похоронили в златоглавом храме по подобию Али и Хусейна.
Мессианский пыл также способствовал разжиганию ирано-иракской войны в 80-ые годы, когда иранские войска на фронте в ночи видели окутанную фигуру на белом коне, благословляющую их на новые подвиги. Кто был этой фигурой, как не сам Махди? В действительности ими оказались профессиональные актеры, в задачу которых и ставилось создание сильного впечатления в воинах, хотя никто не был уверен в том, есть ли в этом искреннее почтение перед верой или они представляли собой циничные манипуляции.
Конечно, не было ничего циничного в том, когда президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал на помощь Махди, когда вступал в должность в 2005 году. Он был совершенно искреннен, и эта искренность прибавила лишь опасений. Политика правительства будет направлена на скорейшее возвращение Махди, отметил он – идея очень схожая с мыслями христиан-фундаменталистов, пытающихся ускорить приход второй Мессии, а также евреев-фундаменталистов, которые также стремятся ускорить приход первой Мессии. Ахмадинежад, казалось, достукивался до сердец верующих не только свое страны, но и других стран. Неоднократно отмечаемый им символ «ускорения возвращения» на протяжении многих лет связывался с его антиамериканской и антиизраильской риторикой. На Западе многие опасались относительно апокалиптических последствий особенно через призму ядерных амбиций.
В Ираке чувство конца света проявилось очень явственно после американского вторжения в 2003 году. Радикальный священник Муктада ас-Садр выбрал сильнейшее эмоциональное имя для своей армии – имя Махди.В этом названии уже заложен призыв действию, который выходит далеко за рамки цели Муктады освободить Ирак от американской оккупации и бороться с суннитским экстремизмом. В 2008 году, когда Муктада ас-Садр объявил о формировании социально-политического крыласвоего движения, он четко назвал своих сторонников Мумахдиун, то есть «людьми, задача которых заключается в расчистке пути для прихода Махди».
Но если веру можно использовать как способ надежды набудущее, ею также можно воспользоваться для уничтожения этой надежды. И это произошло в феврале 2006 года, когда какая-то из групп, по всей вероятности экстремистская суннитская группировка Аль-Каиды в Ираке, положила взрывчатку под мечеть Аскарийя в Самарре. Этот великолепный золотой купол обрушился, положив тем самым новый витокборьбы шиитов и суннитов именно в тот момент, когда, казалось, что гражданской войне в Ираке приходит конец. Борьба стала еще более ожесточенной, когда в следующем году взорвали два уцелевших после первого взрыва златоглавых минарета.
Более сильной акции Аль-Каиды в Ираке не могло быть. Всем шиитам дорог Мечеть Аскарийя, где не только расположены могилы десятого и одиннадцатого Имама, но имеется Бир Аль-Гайба – «Колодец Исчезновения» — пещера, куда опустился двенадцатый Имам и исчез с глаз этого мира, где он и останется скрытым до времени своего повторного пришествия.
Именна эта пещера и стала объектом нападения. Если вы наступаете на Храм Хусейна в Карбале, а на этот храм было много наступлений на протяжении веков, в том числе и наступление войск Саддама Хусейна, то вы наступаете на сердце исламских шиитов. Если вы наступаете на храм Али в Наджафе, а ровно то же самое сделали американские войска, пытаясь вытеснить в 2004 году армию Махди, вы посягаете на душу исламских шиитов. Но если вы наступаете на храм Аскарийю в Самарре, то вы совершаете самое чудовищное преступление – вы посягаете на Махди, на ядро надежды шиитов, на их идентичность, посягаете не только на прошлое и даже настоящее, но и на их будущее.
Глава 15
Зверства, подобные врывам в день Ашуры в 2004 году в Кербеле, разрушению храма Аскарийи в 2006 году неминуемо выходили в заголовки новостей, указателями эскалации конфликта. Они нашли такой же глубокий отпечаток в памяти людей, как и события четырнадцативековой давности. Эти события придают истории Кербелы некий оттенок бесконечности, признаки их роста и важности с каждым вырывающимся наружу новым возмущением.
Но определить ход судьбы столь однозначно было бы неверно. Не прошло и ста лет после гибели Хусейна, а раскол между суннитами и шиитами стал расширятиься, причем не столько в рамках политики, как в рамках богословия. Многоэтничность исламской империи невольно подрывала устои централизованной политической власти; к девятому веку, по мере ослабления династии Аббасидов, религия и политика стали постепенно отделяться друг от друга, обретали в своем развитии некую самостоятельность. На фоне отсутствия политического консенсуса, улама - религиозные ученые и священнослужители - создали исламский консенсус среди разных этносов и приобрели, который не утеряли по сей день, когда четверо из каждый пяти мусульман - не-арабы.
Составили в отдельности суннитские и шиитские сборники хадисов, различия между ними охватывали конкурирующие между собой исторические воспоминания. Высказывались различне версии одних и тех же историй, причем разногласия заключались не в том, что произошла ли история в седьмом веке, или ее совсем не было, а в том, какой смысл она носила. Скажем, сунниты видели в том, что Мухаммед выбрал именно Абу Бекра своим спутником в хиджре, то бишь, в переезде в Медину, знак преемства. Тогда как шииты усматривали в заявлении Мухаммеда в Гадир Хумм знак преемства Али. Сунниты, в целом, почитали историю такой, какой она была; шииты почитали историю такой, какой она должна была быть, и какой она была в мире духовном, а не в мире мирском.
К X веку аббасидские халифы превратились в не более чем подставных лиц. Политическая власть находилась в руках буидов, шиитской иранской конфедерации из северо-восточной Персии, учредившей ритуалы Ашуры, какими мы их знаем сегодня. Но позиции Багдада, столицы Исламской империи, продолжали ослабевать, и к 1258 году город был беспомощен перед натиском монгольских войск под предводительством внука Чингисхана, Хулагу. Некогда великая империя распалась на мелкие суннитский и шиитские династии Пройдут еще два столетия, пока относительная стабильность не будет достигнута, и Ближний Восток будет разделен между византийцами и персами. В Турции появится суннитская Османская империя, а в Персии, сегодняшнем Иране, появится империя Сефевидов, возведшая шиизм в ранг государственной религии. И в этот раз Ирак оказался зажатым между клешнями двух империй, землей где на протяжении столетий сталкивались сунниты и шииты в ожесточеннейших схватках.
На фоне вспышек насилия в Ираке, Карбала неоднократно подвергалась атакам, самыми крупными из которых было нападение ваххабитов в 1802 г. и турецких войск в 1843 г., когда пятая часть населения города были зверски убиты - шииты и сунниты по большей части принимали разницу, а не усугубляли ее. На бытовом уровне они порой понимали эту разницу. Улама не сумела бы регулировать популярные религиозные обычаи, которые противоречили официальной практике. Почитание Али было распространено как среди суннитов, так и среди шиитов, и до сих пор остается таким. Несмотря на официальное отвращение суннитов к «идолопоклонству», паломничество к святыням и молитвам о заступничестве святых оставался популярным как среди суннитов, так и среди шиитов. Несмотря на то, что Ашура сподвигала суннитов на атаки, в остальное время сунниты участвовали в ритуалах вместе со своими соседями-шиитами. То, что произошло, меньше всего объяснялось теологией, чем политикой времени. Как и в любом вопросе веры, в современной Америке так же, как и на Ближнем Востоке столетия назад, суннитско-шиитский раскол всегда можно было использовать в политических целях.
Каким бы ни был баланс, Первая мировая война и последующее разделение Османской империи внесли свои коррективы. Вмешательство Запада преобразило Ближний Восток, зачастую в том, что казалось поразительно бесцеремонным, надменным образом жизни. Британцы допустили захват власти в Аравии родом Сауда, проповедывающими ваххабизм, поставили во главе шиитского Ирака президента-суннита и поддержали симпатизирующего нацистам Реза Хана в качестве иранского шаха. После Второй мировой войны власть в мире перешла в руки США. Мотивированное идеологией холодной войны это государство организовало государственный переворот против новоизбранного премьер-министра Ирана Мухаммад Мосаддыка и восстановило автократический режим сына Реза-хана, шаха Резы Пехлеви, при котором Иран впервые с помощью США стремились получить доступ к ядерной энергии. США последовательно поддержал правление ваххабитов Саудовской Аравии не только за доступ к нефти, но и как оплот против просоветского режима Насера в Египте. В 80-е годы США совместно с Саудовской Аравией и Пакистаном финансировало антисоветское движение моджахедов (буквально, воинов джихада), в АФганистане, или как их метко называл президент США Рональд Рейган борцами за свободу. А ведь именно моджахеды стали базой формирования Талибан. В том же десятилетии Соединенные Штаты поддержали Саддама Хусейна в ирако-иранской войне, чтобы подавить жесткий антиамериканизм послереволюционного Ирана, а также были замешены в крупном политическом скандале Ирангейт, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны.
Такая интервенция породила сильные антизападные настроения, которыми питаются корни суннитского и шиитского радикализма. Страх и негодование манипуляциями Запада выразились в бестселлерах иранского культурного критика Джалала Аль-и Ахмада, чья книга "Гарбзадеги" («Occidentosis» или «Вестоксификация») раскрыла западные культурные и финансовые доминирования, показав их смертельной болезнью, которую нужно было искоренить из тела иранской политики и вывести за рамки Ислама. Призыв Ахмада был воспринят шиитами и суннитами, нашел поддержку у египетского радикального идеолога Сейида Кутба, основоположника современного исламизма. В своей книге "Вехи на пути" (издан в 1964 г.) Кутб писал, что установление царствия Бога на земле, устранение королневства людей передает власть из рук людей-узурпаторов и передает ее Богу». Не это ли является отзвуком "Лишь Бог может рассудить", знаменитого воззвания седьмого века, провозглашаемого хариджитами, убийцами Али.
Как суннитские, так и шиитские радикалы призывали к мощному слиянию седьмого и двадцатого века: истории Карбалы и антизападничества. К 1980-м годам такие призывы стали явным сигналом опасности для проамериканских саудитов, которые хорошо понимали, что радикальные суннитские источники могут вернуться на родину и угнездиться в родных пенатах, порождая арабский эквивалент Иранской революции. Их ответ, по существу, заключался в том, чтобы бороться с радикальным исламизмом путем его финансирования за границей, тем самым отводя направление его удара от дома. Саудовцы стали основными экспортерами ваххабитского экстремизма и его резко антишиитской позиции, начиная от Африки, вплоть до Индонезии, противодействую только что укрепившемуся чувству шиитской идентичности и «шиитскому возрождению», заряженной энергией Иранской революции. Раскол суннитов и шиитов снова стал политизироваться, как и в начале своего появления.
В таком противостоянии сунниты, казалось, имели явное преимущество, поскольку шииты составляли около пятнадцати процентов всех мусульман. Но эти цифры могут ввести в заблуждение. Шиитов больше в сердце Ислама, на Ближнем Востоке, там их около пятидесяти процентов. Шиитов также много в местах, богатых запасами нефти, как, например, в Иране, Ираке, на побережье Персидского залива, в том числе в восточной части Саудовской Аравии. Пока нефть доминирует в мировой экономике, ставки высоки, какими они были на пике мусульманской империи. И главный вопрос, который тянется аж с седьмого века - кто должен вести ислам? - теперь разыгрывается на международном уровне. Как когда-то боролись Али и Муавия, сегодня противостоят шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия, которые соперничают друг с другом за влияние и политическое руководство исламским миром, за власть, что наглядно видно в городах Ирака, горах Афганистана и в Пакистане. Как, наконец, признали Соединенные Штаты, тысячи убитых солдат которых были убиты в Ираке и Афганистане, Запад вступил в очень опасную борьбу за власть. Ведь многие на Ближнем Востоке подозревают, что западные державы намеренно во все времена манипулировали расколом между шиитами и суннитами, дабы подчинить их своим интересам. Хаос, вызванный вторжением США в Ирак в 2003 году, возможно, привел к еще одному невольному последствию в глазах американцев, хотя это же последствие не выглядело столь невольным в глазах иракцев. «Захватчик нас разделил», - заявил Муктада ас-Садр в 2007 году. «Единство - это сила, а разделение - слабость».
Идея фитны достигла еще одного смыслового, более зажигательного уровня: раздор и гражданский война внутри ислама, управляемые извне, преднамеренно поощряемые врагами ислама, чтобы обратить мусульман друг против друга и тем самым ослабить их.
У западных держав была возможность проникнуться с большим пониманием, чем это было в их истории, к вопросам Ислама, но если они, действительно, пытались использовать этот раскол, эта попытка только отскочил против них. К настоящему времени ясно, то они явно наступили на грабли. Сегодня тот, кто опрометчиво думает вмешаться в суннитско-шиитский раскол и при этом уйти невредимым, в лучшем случае выдает желаемое за действительное. Вызывает прямо-таки искушение мысль, что если бы администрация Буша знала о мощи Карбалы, то американские войска никогда бы не получили приказ приблизиться ближе ста милей к священным городам Наджаф и Карбала. Но и здесь проскальзывает стремление принять желаемого за действительное. Историю часто творят люди нерадивые - это правило было доказано Йазидом в седьмом, и Джорджем Бушем в двадцать первом веке.
После почти векового периода неудачного вмешательства, Западу наконец-то нужно просто отступить, чтобы признать эмоциональную глубину суннитско-шиитского раскола и заставить себя уважать его запросы. История Кербелы пережила и укрепилась не в малой степени ввиду глубокого проникновения в вопросы морали - идеализма против прагматизма, чистота против компромисса. Его ДНК - это то самое, что испытывает политику и веру, оживляет широкую и зачастую страшную арену, на которой пересекаются двое. Но присуща ли святость кровному роду Пророка, как верят шииты, или общине в целом, как верят сунниты, не должно тревожить Запад. Запад должен понять одно: то, что объединяет две основные ветви ислама намного больше, чем то, что разделяет их, и что подавляющее большинство всех мусульман по-прежнему лелеют идеал единства, проповеданный самим Мухаммедом - идеал, который потому и глубоко берегут, потому что он глубоко нарушен.